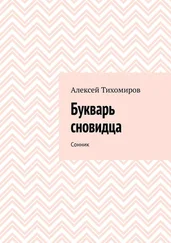Мать радовалась переменам в моём поведении. Наконец-то я стал нормальным человеком. Она даже заставила брата написать отцу письмо и порадовать его. И брат писал об этом охотно…
Наступили сумерки. Зажечь лампу не оказалось спичек. В коробке была одна спичка, но она сломалась.
— О, да я вроде бы на днях начала коробок — и все спички, — подивилась мать и спросила: — Ребятки, вы не брали?
— Нет, мам, — ответил Мишка таким голосом, что никакого сомнения в его честности быть не могло.
— Я тоже не брал, — сказал и я, но почувствовал сам фальшивость в интонации собственного голоса.
— И я не брала, — сказала Полинка. — Ав саду ребята вчера опять стреляли спичками. Лёнька нянькин говорил.
Хорошо, что было сумрачно, никто не видел пламени на моём лице.
— Мам, я подам спички, — сказал Мишка и полез на печку.
На мгновение он задержался на краю печи, посмотрел на что-то в руке на свету, сказал:
— Мам, а я что-то нашёл.
Меня разом охватило холодом и бросило в жар. И вот брат погремел спичками, сказал:
— Мам, а тут совсем мало коробков осталось и здесь спичек отбавлено.
— Да что ты говоришь?
— И сахар я нашёл. Смотри, какой кусина.
— Ну-ка, ну-ка? Что ещё за оказия?
Если бы можно было провалиться сквозь лавку и сквозь землю, я это наказание принял бы с великой радостью. Но осветилась лампой изба, мать полюбовалась находкой и вдруг проговорила:
— Погоди-ка, да это же не из сундука ли сахарок-то? Мать открыла сундук, опустила руку. Тут же она перетрясла всё до тряпицы и, не найдя сахара, горестно запричитала.
Она произносила слова «грабители», «бесстыдники», «головорезы» и другие, слышать которые было стыдно и больно.
Кто совершил воровство, выяснять долго не пришлось. Я слова лживого не мог произнести без краски на лице. Лишь подумав соврать, я прежде превращался в спелый помидор, а потом, путаясь, врал. И даже если мне верили, я не был убеждён, что мое враньё осталось не замеченным, всегда переживал потом и терзался.
— Тринадцать кусков перетаскал! Да кого же ты ими, да за какое такое дело накормил? Да я ли что вам жалела когда? — причитала мать, а новая, братом свитая верёвка хлестала меня по заду и по спине. И как при наказании Мишки, ревела Полинка, заплакал брат и заступился за меня.
Мать потом пожалела меня. Я рассказал ей всю правду. Она на следующий день поругалась с отъезжавшими из деревни Машковыми, но сахара не вернула. Зимой я простудился и заболел. Мать делила уцелевший тринадцатый кусок сахара на дольки и давала мне посластить рот. Я откладывал сахарок под подушку, а потом отдавал сестрёнке, а сам пил сок из мороженых яблок.
Мишка, когда пошёл в пятый класс, с зимы, с первых крепких морозов вставал в Спешневе на квартиру. Квартировали они вчетвером у одинокой хозяйки Жировой. У неё был сын Иван, но тогда он учился в Ленинграде на ветеринара. Мой брат и дома мы все восхищались, что вот парень деревенский, а учится в таком знаменитом городе да ещё на такое почётное дело. Тогда в деревне больше всего уважали докторов, ветеринаров и всех учёных людей, которые приносили большую пользу.
Хозяйка, как рассказывал брат, была очень добрая. Его она любила, потому что он помогал ей, как родной сын. Он первым брался носить воду, колоть дрова, расчищать от снега дорожки и проходы. Ещё она хвалила его за то, что он быстро справлялся с уроками и любил читать вслух книжки. Она говорила, что наш Мишка характером схож с её Иваном.
С Иваном я встретился уже после войны. Называли его уже Иваном Ивановичем. Из института он ушёл защищать Ленинград и воевал на Ораниенбаумском пятачке. После войны он работал председателем сельского совета, председателем колхоза, был лучшим председателем во всей области.
На воскресенье ребят привозили из Спешнева домой. Иногда они приезжали с председателем, Василием Власовичем, если он бывал в сельсовете или районе, но чаще приходилось брать под вечер подводу и направляться за ними. Я готов был ездить за ребятами каждую неделю, но мать не всегда разрешала. Она боялась, что на меня могут напасть волки, что я заблужусь или замёрзну. Ездил я всегда таким закутанным, что только и мог видеть дорогу да править вожжами. Я даже не мог поворачивать голову, чтобы посмотреть на поле, нет ли там какой опасности. Для поддержания смелости я всю дорогу понукал лошадь громкими окриками, уговаривал её поторапливаться, обещая за работу овса и тёплой воды; столько наговаривал за дорогу, что если бы лошадь понимала мою речь, она повернула бы голову и сказала: «Врать ври, дружище, да не завирайся».
Читать дальше