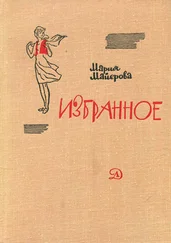Увидев двух военных в форме Советской Армии, посетители маленького, стилизованного под сельскую корчму ресторанчика - загорелые партизаны в штатском, с винтовками, стоявшими у столиков, с трёхцветными ленточками на шляпах, повстанцы в щеголеватых мундирах, ещё недавно так презираемых, а ныне снова стяжавших любовь народа, и сидевшие с ними девушки в военном и девушки в национальных костюмах - повскакали со своих мест и долго кричали здравицы, скандируя слова «Красная Армия» - «Руда Армада». Потом оркестранты сорвались со своего помоста и, окружив нишу, в которой мы приютились, заиграли «Катюшу», и все посетители, немилосердно перевирая слова, запели по-русски эту нашу песню.
- Как они нас встречают! - сказал я, получив возможность усесться, наконец, за наш столик.
- А вы думаете, только они? Только здесь? Везде так, во всех странах. Красная Армия - теперь мировое слово. Везде понимают без перевода. Волшебная палочка. Оно нас везде кормило, укрывало, прятало, от преследований спасало.
- А вы и в других странах бывали?
Он только свистнул и махнул рукой, как будто спрошен был о чём-то само собой разумеющемся.
- Больше двух лет скитаюсь. Кабы знали вы, как надоело! Иной раз такая тоска возьмёт, хоть в пропасть головой. И люди хорошие. И страны что надо, да разве с нашей-то, Советской страной, сравнишь!
Он залпом выпил высокий литровый бокал пива, спросил, нет ли советской папироски, пожалел, узнав, что нет, и, приподняв вдруг со лба тёмнокаштановые густые волосы, показал лучеобразные синие рубцы на лбу:
- Видите… В августе сорок первого под Смоленском ранило. Череп царапнуло, да, вишь, так удачно, что мозг-то не задело. Только крови порядочно потерял. Упал без памяти, а когда очнулся, на моём наблюдательном пункте, - а сам-то я артиллерийским наблюдателем был, - наших уже никого нет. Кругом немцы. Хенде хох! Взяли меня, раба божьего. Которых тяжёлых-то поперебили всех тут же на месте, а меня взяли. Я ходить мог. Сбили нас в транспорт и повели на запад. Пешедралом. Вот с того самого дня и скитаюсь по белу свету. У вас время не свободно? Ну, часик-другой найдётся, а? Очень мне хочется рассказать своему человеку, что я за это время пережил, перевидал. Послушаете? Эй, пшиятель, нам ещё два бокала!
И тут, в маленьком кабачке, под звуки оркестра, игравшего хорошие, тягучие, мелодичные, но чужие песни, Горелкин рассказал мне свою историю, удивительную историю советского солдата, попавшего в плен, увезённого далеко от родины, но и тут, за тысячи километров от своей армии, не признавшего себя побеждённым, не сложившего оружии и не переставшего воевать.
Я опущу из его рассказа некоторые, слишком уже известные теперь, подробности о том, как обращались фашисты с военнопленными, как пешие транспорты таяли по дороге на запад, теряя сотни, тысячи, десятки тысяч больных, раненых, обессиленных, слабых людей, которых конвоиры пристреливали или добивали прикладами, об ужасах лагерей, где делалось всё для того, чтобы превратить человека в зверя, в голодный рабочий скот, без мысли, без воли, готовый безропотно и молчаливо выполнять любую работу. Я передам только канву его рассказа, потому что иначе получился бы не рассказ, а большой роман.
Горелкину удалось выжить, преодолеть все испытания плена и сохранить энергию и волю.
В Белостоке, в этапном лагере, пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, посадили в товарный вагон и повезли на юг через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди пленных в вагоне оказался бывший учитель географии, сносно говоривший по-немецки. Старый австриец-конвоир, участник ещё прошлой войны, тайком ненавидевший Гитлера, проболтался ему, что везут пленных в Грецию, на строительство порта Салоники, который немцы тогда укрепляли, приспосабливая для военных нужд.
Печальный поезд с пулемётами на тормозных площадках, с платформой, на которой ехал вооружённый конвой, медленно пересекал Европу. Он тщательно охранялся. На остановках его окружали автоматчики. Бежать в этих условиях означало верную смерть. И всё же на каждой крупной остановке пленные бежали. Они выпрыгивали из вагонов прямо на автоматы, навстречу верной смерти. Вряд ли кто из них всерьёз думал уйти. Побег стал одной из форм самоубийства. Измученные люди предпочитали смерть плену.
Горелкин и его друзья, с которыми он очень сошёлся в вагоне, - донбасский шахтёр Василь Копыто, электромонтёр с рязанской электростанции Семён Агафонов и московский учитель Владимир Ткаченко - не искали смерти. Они хотели жить и бороться. Они мечтали бежать, но бежать умело, сохранить жизнь и вернуться в армию.
Читать дальше