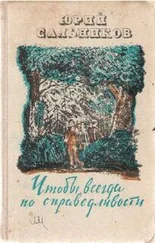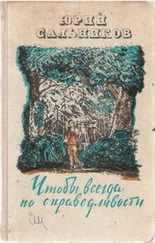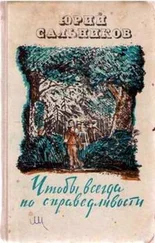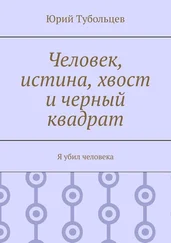— Глупо.
— Конечно. Только она смеется.
— Кто?
— Дина. Говорит — жизнь ничтяк и все трын-трава. Главное — свобода. Не теряться. У нее, знаешь, сколько поклонников? Сегодня один, завтра другой.
— Что же в этом хорошего?
— А весело!
— Ох, Ларка! — Меня снова охватило беспокойство, как дома у Ларисы, когда она так же легкомысленно, бездумно говорила про веселье и свободу, которая никому не мешает. — Сегодня один, завтра другой. Разве это любовь?
— А любви вообще нет, — отрезала она.
Еще лучше! Не хватает, чтобы она повторила распространенную глупость, будто любовь выдумывают лишь писатели в книгах. И она повторила:
— Про любовь только в кино показывают.
— Это тоже Динка говорит?
— Так все говорят. Вот и мамуля.
— Мамуля?
— Ну! Сколько помню: как увидит в кино — рукой машет, чепуха, говорит, один обман. Главное — за солидным устроиться.
— Главное — устроиться, главное — свобода. А сама-то ты думаешь? Если нет любви, что есть?
— А одна фантазия. Понимаешь, вот познакомилась ты на танцах с мальчишкой. Первый раз его увидела и даже, как зовут, не знаешь. А он тебе понравился. И пошли вы домой. Ну, провожает он тебя. И вдруг — целовать начал. А ты и не возражаешь. Потому что тебе приятно. Ведь приятно? Было у тебя хоть раз так?
На танцах я ни с кем не знакомилась. Но так у меня было. Или почти так. Потому что как его зовут, я знаю. И многое другое о нем знаю. И нравится он мне давно. Только все равно — разве это любовь у меня? А у него ко мне — тем более нет! И все-таки права Ларка: мне было с ним приятно. Но значит, она права и в остальном? И нечего себя стыдить и казнить за то, что произошло так, — пусть ее и нет, любви, пусть одна фантазия?
Нет, все же нет! Потому что если так — значит, побоку всякие высокие чувства и стихи, поэзия и пусть побольше поклонников, как у Динки, — чем больше, тем приятнее — развеселая жизняга, черт возьми! Вот уж чепуха-то, вот настоящая глупость, и не может такого быть, не могу я с этим опять согласиться, да и не живут так взрослые…
Взрослые? А собственно, что я знаю о взрослых? Их поведение — загадка, иногда даже, если они делают что-то, казалось бы, открыто для всех. О чем же говорить, когда коснешься их жизни, утаиваемой от других? Динкин отец — беспутный, а мать его не бросает. И у Ларисы мамуля смеется над любовью, но зачем же тогда у нее «Деточка»? Неужели и вправду лишь ради выгоды? А Данилюки-Кошманы — и хорошо живут, и ссорятся. Чужая семья — потемки, сказала мама. А сама она, моя мама, — любовь ли у нее с папой? Как будто — да. А точнее? Про работу — зачем живут? — спросила я у них, и то — озадачила, а разве спросишь про это?..
Вот и теряюсь я снова — который раз! Все просто в жизни, пока сидишь на уроках или дома, за учебниками, а чуть высунешься на улицу, будто окунулся — сразу в стремительную реку с каверзным руслом — то широко разливается, то клокочет в узкой теснине, то захватит тебя мощным водопадом, то выкинет на мелкий перекатик с камешками, зальет сверху пенным потоком так, что захлебнешься, и тут же обожжет в глубине струей ледяного подводного течения — аж ноги сводит, попробуй выплыви.
И — попробуй пойми: кто — кто. Честный, да злой. Обманщик, а веселый. И с любовью или без любви? Или уж кому какая выпадет планида?
Лариса спала, посапывая, — уснула сразу. Так я ничего и не сказала ей о Буркове. Она забыла спросить про него, а я не стала открываться. Пусть. Все равно осуждаю себя и не могу иначе, потому что хочу, чтобы меня уважали.
Стоп! Вот, кажется, и нашла я самое нужное слово: уважать.
Пусть нет ее, этой любви, если кто-то в нее не верит, но должно быть уважение . И не знаю, как у других, а про своих родителей скажу, да — они друг друга уважают. Про это я уже могу у них и спросить без всякого колебания. Хотя и сама вижу: уважают!
А вот уважаю ли их я? Мама сейчас хотела помочь нам. Пусть неумело, невпопад, но с доброй заботой о Ларисе. А мы? Ушли, оставили без внимания. Но ведь внимание — начало уважения к человеку. А я же люблю маму. Значит — люблю и не уважаю?
Сказал когда-то Курочкин: «В природе нет шагов понятных». В природе. А у людей?
Вот и верно: жизнь не праздник и не зрелище.
Трудное занятие.
Утром после завтрака, подойдя к маме и чмокнув ее в щеку, я сказала:
— Ты прости меня.
— За что? — Она сделала большие глаза.
— Сама знаю — за что.
— Ну вот. — Она взглянула на папу. — Что с ней делать?
— А ничего. Все сами с собой сделаем, верно? — Я брала в союзницы Ларису, хотя она и представить не могла, о чем идет речь.
Читать дальше