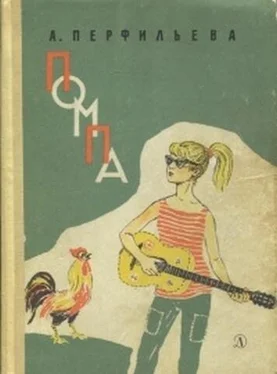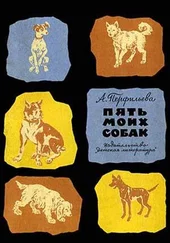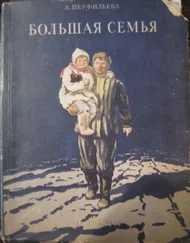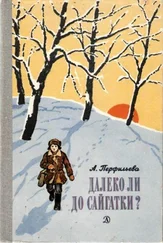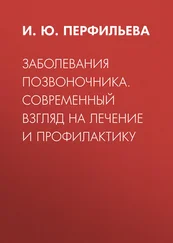Потому что засуха — жестокий, неумолимый враг. Особенно когда чёрные водопроводные колонки, по которым драгоценную влагу гонят в деревню с водохранилища, стоят на улице чуть не полные сутки мёртвыми и лишь на час-другой оживают, собирая вокруг себя длинные очереди с вёдрами, лейками, бидонами.
Ручей пересох. Криничка хоть и бьёт исправно из-под скалы, да возле неё тоже весь день, с утра до темноты, народ: утром ребятишки, к вечеру взрослые, вернувшиеся с полей, с виноградников…
А небо синее, безжалостное. Ни облака, ни тучки. Солнце жжёт, как огненный шар, истомлённую землю. Трещины рвут, кромсают её всё глубже. Свёртывается в садах поблёкшая листва. И нет надежды на дождь, на грозу — июнь такой выдался! В Изюмовке стар и мал знают: появится на горизонте лёгкое облачко, начнёт расти, глядишь, уже словно стадо белоснежных овечек на бирюзовом поле… Но если эти облака с моря, а не из-за гор, дождя не будет!
Горы тонут в сиянии, и небо за ними чистое-чистое, с утра нежно-розовое, позже голубое, или густо-синее, или золотое от солнца, а к закату — сиреневое, оранжевое, красноватое, предвещающее ветер, но не дождь. Нет, не дождь!
Где ж её взять, воду? Уровень водохранилища стремительно падает, нет ему пополнения. Надо беречь, надо рассчитывать каждый кубометр…
Воды, воды, воды! Пить хочет нагревшаяся земля, пить хочет!..
* * *
— Юлька, вы огород уже полили?
— Я полила. Теперь сад начну поливать.
— Сад? Юля, когда кончишь, дашь огурцы трошки напоить, а?
— У нас же сад очень большой! Абрикосы ждут. И персики. И малина.
— Абрикосы ведь бесполивные!
— А у нас поливные. Мне Пётр ничего не говорил… И не велел никому воду давать!
Две соседские девочки-двойняшки, Клаша и Маша, старательно, с натугой волокут с кринички вёдра к своему дому. А к дому прямиком не пройдёшь — он на той стороне улицы, — надо проулком, в обход, далеконько. Клаша и Маша девочки деликатные: нет чтобы попроситься пройти через Юлькину усадьбу.
Сёстры одинакового роста, носят одинаковые платья, волосы вяжут одинаковыми крендельками. Юльке, сидящей на кирпичном бортике скважины, издали кажется: это у неё, наверно, в глазах от переутомления сдвоилось. Ах, ах, уморилась, бедняжка, из сил выбилась! Говорил же ей Пётр: «На одну тебя теперь надежда», А самое главное: «Вода для НАС — драгоценность!»
— Юлечка, никак, сад поливаешь?
— Угу.
— Жарко, мочи нет!
— Жарковато.
— Галина-то где?
— На червях.
— Юлька, вечером, как управишься, за наш плетень шлангу протянешь? Я хоть бы десяток вёдер на помидорки слила.
— Мне Пётр велел… под каждый персик двести вёдер дать! Двести вёдер по пятнадцать секунд получается триста, то есть три тысячи, делим на шестьдесят… — Результат Юлька проглатывает. — Всю ночь буду лить.
— А спать когда?
— Успею и поспать. Помпа работает бесперебойно.
— Энергию, может, жалеешь, говори уж прямо!
— Как — энергию? Нам самим вода нужна! Пётр говорил, на меня вся надежда, а вода — золото. И никому не велел…
— Помпа ты и есть…
Последние слова сказаны за плетнём довольно громко, и рассерженная Юлька посылает вдогонку соседской девочке, которая несёт с кринички коромысло с двумя вёдрами, а третье в руке:
— Мне ещё крыжовник Петруша велел поливать — слышишь?
— Крыжовник без воды проживёт. Не мог тебе такого Пётр велеть! — доносится в ответ.
— Юля, Юлька, ой как складно помпа поёт! Юля, вот если бы на ваши шланги наши нацепить, ох, и мой огород полили бы! Юлечка, а?
Это кричит дочка почтарши, Верка, прибегавшая с известием о полученной на Юлькино имя бандероли. Верке, помощнице и сообщнице в некоторой степени, Юлька отвечает благосклонно:
— Хорошо. Вечером переговорю с Петром. Может быть, и разрешит. Ты зайди завтра… часов в двенадцать.
— Ой, Юлька! Кто же в полдён огороды поливает? Землю хуже солнцем стянет.
— Я поливаю, у меня же не стягивает.
— Так ты много воды льёшь, вволю!
— В общем, если не хочешь, не приходи. Дело твоё.
Верка молчит, молчит, вдруг выпаливает:
— У, жадоба! А ещё москвичка! — и со всех ног припускает к криничке.
— Мне не понятен деревенский диалект, — высокомерно изрекает Юлька, хотя всё отлично поняла, а слово «диалект», слышанное где-то, ввернула от обиды.
Старушка идёт в гору от кринички. Тащит не ведро — бидон. В другой руке бутыль на верёвочке. Останавливается у плетня, долго глядит на скважину, слушает гудение помпы, изучает Юльку. Наконец шамкает:
Читать дальше