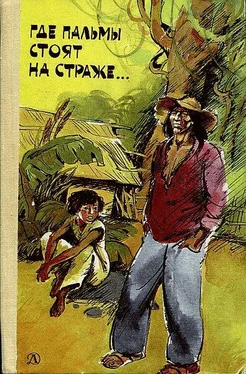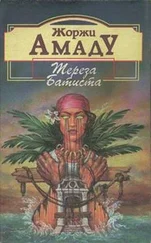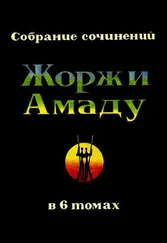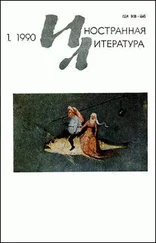— Балка Сыромятная! Ах-ха-ха!
— Как? Как, Марина?
Теперь все смотрели на негритяночку. Тут Марина закатилась такими истерическими взрывами «ах-ха-ха!», что уж не могла остановиться.
— Скажи, Марина! Не дури!
Но негритяночка изнывала от стыда и всё смеялась, смеялась, извиваясь от смеха, сжав лоб в растопыренных пальцах. Пришлось вмешаться доне Лауре и всему ее авторитету:
— Марина, что это такое! Повтори название, а то никто… Лаурита то есть… не знает!
Негритяночка опустила руки и сидела серьезная, снова оцепенев и выпучив глаза с огромными белками, занимавшие пол-лица. Потом сказала медленно, подавленная, с мрачностью приговоренного к казни:
— Балка Сы-ро-мятная?
Она словно спрашивала других, удивясь, что что-то знает. Все успокоились, и Лаурита снова принялась любоваться пейзажем, в то время как две толстые слезы катились по щекам негритяночки.
Вот в это-то путешествие и произошел памятный случай, из тех, что всегда потом вспоминают в семье. Лаурита время от времени возвращалась к своей беспощадной привычке выкрикивать на весь вагон названия станций, которые они проезжали. Дона Лаура, задыхаясь всей грудью, в тысячный раз поправляя съехавший ворот, совсем уже занемогла от жары. В отчаянии взглянула она в закрытое окошко. Дома, дома, безо всякого порядка, не склеенные в улицы, толпились, всё больше загромождая пейзаж. Дерганье вагона стало мягче, поезд замедлил ход. Удушенная дона Лаура воспрянула духом. Наверно, большой какой-нибудь город… Подольше постоят здесь и откроют окна, чтоб проветрить вагон… И, горя ожиданием… Господи, какой злой дух надоумил дону Лауру спросить у Лауриты, как называется станция?! Лаурита приплюснула маленький нос к стеклу, гордая тем, что помогает матери. И в бурном волнении закричала:
— Ничего не видно… Еще ничего… Я сейчас, мамочка! Сейчас прочитаю!.. — и страстно тыкалась носом в закрытое окошко.
Соуза-Коста, опасаясь провала дочери, обвел взглядом присутствующих. Многие путешественники тоже ждали, приунывши; некоторые, привстав с мест, терпеливо улыбались. Дома проплывали уже громоздкие, неуклюжие, построившись в улицы. Поезд, толчками, останавливался. Лаурита крикнула:
— Это… Это Убо… Убо-ро… Убороная, мамочка!
Дона Лаура и учительница немецкого почувствовали, что умирают. Соуза-Коста, впервые выйдя из себя, встал, собираясь нахлопать дочку. Учительница приподнялась было, чтоб спасти положение и оградить свою ученицу. Но поезд резко дернул, останавливаясь, и оба — Соуза-Коста и учительница, обнявшись, сели, как на подушку, на грудь доны Лауры. Соуза-Коста, раздосадованный, вывернулся, оставив учительницу, где сидела… Он хотел… Он… Но весь вагон разрывался от хохота, даже норвежка. Соуза-Коста вдруг понял, что не знает, что теперь делать. Жаловаться в Центральное Управление железных дорог Бразилии? Поклясться, что никогда больше не отправится в опасное путешествие на поезде? Дона Лаура, с видом больно пришибленного человека, поправляла ворот платья. Извиниться перед женой? Нашлепать дочку? Нет, только не это! Бить детей? Он? Фелисберто Соуза-Коста? Никогда! И, как зловещая комета, родилась у него внутри и всё росла мысль: унижают его ребенка! Комета уже пылала у него внутри, и какая-то — он сам не понимал — огромная обида толкала его сорвать все задвижки с собственного благородного воспитания и отпустить какую-нибудь грубую шуточку, сравняться с дочкой, чтоб над обоими смеялись, чтоб не оскорбляли невинное дитя, чтоб… — Но комета уже потухала, так и не взорвавшись. Соуза-Коста сел, в унынии. Почувствовал смутное желание приклеиться к стулу и остаться так навсегда. И жалобным голосом сказал:
— Нет, это не уборная, нет, Лаурита… Это город Таубат е.

Когда я бегал в рубашонке
Еще и сейчас, как увижу бритую голову, плохо делается. Как это ни странно, но первое понятие о низости человеческих поступков и жизни вообще я получил, когда меня в детстве обрили. Никогда не забуду — и это самое раннее мое воспоминание, — как потом все старались меня приласкать, чтоб развеять тоску из-за потерянной шевелюры, как кто-то, не помню уж теперь кто, мужской голос какой-то произнес: «Да ты теперь взрослый мужчина!» А мне было три года, и я испугался. Такой меня страх пробрал, такой ужас — как это я, совсем маленький, и вдруг сразу взрослый мужчина? — что я громко заплакал.
Читать дальше