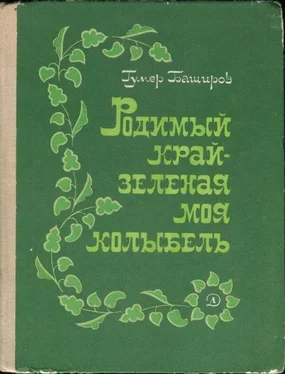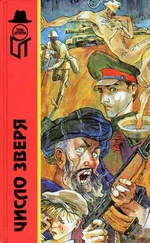— Тут, — сказал, — что-то серьезное заварилось!
Поспрошал кое-кого и уехал обратно.
На другой день в упряжке с пристяжной с колокольчиками нагрянул сам становой пристав. Рассказывали, что ему пожаловались на стражника, будто он пьяный ворвался в дом к муэдзину. Особенно дядя Гибаш старался.
— Вижу, — говорит, — старосты нет, понятых нет! К стражнику обращаюсь: «Что, мол, за порядок, ваше благородие! Закон так не велит, пойдем приведем понятых». Взял было его за рукав, а Тирэнти вдруг повалился!
— Еще бы не повалиться, — подкрепил его слова Мухамметджан-солдат, — когда он вдрызг пьяный был.
Пристав уехал. Стражника после того к нам не ставили.
Янасала́ наконец свободно вздохнула. Обысков в доме у муэдзина не чинили, книг не жгли. Мы уже могли учиться без опаски. А дядя Гибаш, если вспоминали про ту историю, смеялся, пофыркивая носом:
— Не смей против мира идти! Мир — он мир! Вот что получается, когда над ним шутки строят!
В дни, когда муэдзин и Фатима-абстай оба отлучались из дому, нас учила их взрослая дочь Махибэдэ́р-апай. Помню, как она, скрестив под грудью руки, прохаживалась перед нами и ласково говорила:
— Детушки, миленькие! Шибче не можете кричать? У меня покамест и голова не болит и в ушах не звенит. Кричите, детушки, ладно? Шибче, шибче!
Некоторые ребята, приняв ее слова за правду, начинали орать во всю глотку. Ну и смеялась же тогда Махибэдэр-апай! Глаза ее совсем закрывались, обнажались белые зубы, а щеки еще больше круглели.
Иногда она спускалась к нам заспанная, растрепанная и, прикрыв ладонью рот, долго и сладко зевала, потягивалась. Потом проходила в угол, где стоял таз с кумга́ном, и, неторопливо умывшись, шла наверх пить чай и лишь после этого начинала урок. Она усаживалась на саке, заставляла нескольких учеников ответить урок и заявляла, поднимаясь:
— Довольно! Остальные завтра ответят. Пошли!
И мы всей гурьбой шли за ней во двор. Девочки убирали солому из-под скотины, мальчики сгребали снег, чистили в хлеву. Махибэдэр-апай стояла, упершись руками в бока, и весело смеялась:
— Какие же, оказывается, вы проворные! Вот это работа так работа! Ну, детушки, идите домой, у меня у самой дел много.
Зимой мы уроков не пропускали, зато с наступлением весны ноги просто отказывались идти в мрачную муэдзинову горницу.
Был ясный, солнечный день. Вышел я со своей сумкой из дому, но увидел игравших неподалеку друзей-мальчишек и мгновенно позабыл об учении. Мы бегали, разбивали со звоном хрусткую наледь в ямках от лошадиных копыт. А как зажурчала, потекла по колеям талая вода, я пробрался под навес и, схватив запрятанную в уголке игрушечную мельницу, вынес ее и наладил на быстром ручейке. Колесо на мельнице завертелось, зашлепали по воде лопасти, глазами за их кружением не уследишь. До уроков ли, до муэдзина ли было?!
Потом увидел, что Хакимджан строит ловушку, и тоже вырыл яму поглубже возле нашего дома, устроил легкий настил, соломой да снегом сверху засыпал, следы навел, будто обычная это тропка. Здорово все-таки, если удастся скрыть яму! Ты вроде бы играешь как ни в чем не бывало, а все ждешь, кто же наконец попадется?
Дождался! Смотрю — распахнув ворота, вышел с лопатой на плечах отец и провалился! Я чуть языка не лишился от страха. Отец рассвирепел:
— О-от, окаянные! Это какого негодника выдумка? — И вдруг рассмеялся: видно, его самого развеселило, что он, бородатый мужик, в яме барахтается.
Но стоило ему заметить меня, как он снова расшумелся:
— Ах ты свиненок! Ты чего здесь валандаешься?
Я подхватил сумку и, пока отец не вылез из ямы, побежал к муэдзину. Но уроки, оказывается, кончились и ребята разошлись по домам. Не успел я повернуть обратно, как с верхней горницы спустился муэдзин.
— А-а-а, нагулялся вдоволь и решил сюда заглянуть? Ну-ка!
Привычной рукой он больно накрутил мне ухо и, открыв створку на полу, спихнул вниз.
В подполе было темно и смрадно. Хотелось плакать. Но я сдержался. И на муэдзина не очень разозлился. Ничего, подумал я, зато наигрался вволю.
Над головой моей вдруг затопало, загрохотало. Это в нашу учебную горницу впустили хозяйских телят и ягнят. Это тоже меня не встревожило. Я заволновался только тогда, когда почувствовал, что заключение мое затягивается. Ведь эдак и солнце угаснет и ручейки прихватит стужей!
Так оно и вышло. Меня выпустили, когда солнце уже скатилось к закату, а ручейки подернулись ледяной коркой.
Читать дальше