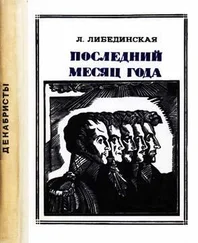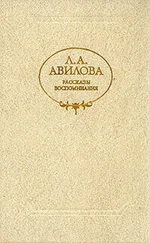Саша мял в пальцах воск, оплывший со свечи, руки становились скользкими, жирными. Взрослые, увлеченные разговором, не обращали на него внимания. Он глядел на них из-за зеленого экрана, и ему казалось, что они существуют отдельно от него, как в театре, на сцене, когда все кажется бесконечно далеким, чужим и таинственным.
– Изменники отечества предполагали заставить членов сената и Государственного совета подписать и обнародовать сочиненный ими бунтовщический «Манифест к русскому народу», – откуда-то издалека доносился до Саши голос Комаровского. – Сей манифест провозглашал свержение царского правительства и отмену крепостного права!
«Значит, есть люди, которые хотят, чтобы Россия жила без царя?» – подумал Саша.
Комаровский погладил усы, выхоленную подстриженную бородку и тревожно огляделся. Произнесенные слова были страшны, и ему не верилось, что он решился их высказать вслух.
– Заговорщики Рылеев, Якубович, братья Бестужевы вели в казармах агитацию против присяги государю Николаю…
Рылеев?! И он с ними? Саша хорошо знал его стихи: «Думы», «Войнаровский»… Нет, Рылеев не мог быть предателем отечества!
Впрочем, заговорщик, убийца, разбойник, крамольник – разве не этими словами клеймили деятелей французской революции?
Саша стиснул кулак, воск расплющился и превратился в плоскую теплую лепешку.
– Все столбовое русское дворянство, сынки известных отцов! – воскликнул Лев Алексеевич.
– Волконский, Трубецкой, Раевский…
– Французские эмигранты, вынужденные после девяносто третьего года расстаться со своим революционным отечеством, – все сильнее раздражаясь, говорил Иван Алексеевич, – принесли в матушку-Россию ожесточение против монархии. А мы из любви ко всему иностранному взяли их в воспитатели к своим детям… Вот и вырастили свободомыслящих дельцов! Да что говорить! – Он махнул рукой.
Он замолчал и отхлебнул холодный красный чай.
– Назначенный диктатором восстания, Сергей Трубецкой не явился на площадь, – быстро продолжал Комаровский. – Господь милостив! – Он перекрестился. – Николай Павлович успел привести к присяге членов сената и Государственного совета…
Комаровский возвел глаза к небу и протянул Луизе Ивановне пустую чашку.
«Руссо говорит, что человек родился свободным, а между тем он повсюду в цепях, – думал Саша, слушая разглагольствования Комаровского. – Бунтовщики. Мятежники… Они хотели отмены крепостного права, свободы крестьянам. Хотели свободы, равенства, братства! Почему же отец, и сенатор, и Комаровский говорят о них с такой ненавистью?»
– Государь вынужден был отдать приказ стрелять картечью по бунтовщикам! – громко сказал Комаровский, и в комнате воцарилось молчание, словно кто-либо из присутствующих совершил неловкость. Но Комаровский продолжал как ни в чем не бывало: – К ночи восстание было задавлено, бунтовщики арестованы, их свезли в Зимний дворец…
«И вы еще называете их убийцами?!» – чуть не крикнул Саша.
Одна из свечей, догорая, замигала, погасла, и легкий душистый дымок, извиваясь, потянулся по комнате.
– Ходят слухи, – сказал сенатор, что и у нас, в Москве, сие гнусное общество пустило корни. Барона Штейнгеля называют.
– Это жена которого пансион для девиц держит? – спросила Луиза Ивановна.
– Он самый, – кивнул головой Лев Алексеевич. – Еще князя Оболенского, Кашкина…
– Страшные времена, жестокие нравы, – вздохнул Комаровский. – Покорнейше благодарю, – добавил он, принимая из рук Луизы Ивановны дымящуюся чашечку с чаем.
– А тебе, Александр, давно спать пора! – сказала Луиза Ивановна.
Спать так спать! Он молча поднялся, с грохотом отодвинул стул. Подсвечник качнулся, и по потолку побежали крылатые тени. Все обернулись к Саше.
– Спокойной ночи! – И вдруг, сам того не ожидая, громко сказал: – А вы, батюшка, еще вчера – хвастали своим вольнодумством! Кому же верить?!
Никто не успел опомниться, как он выбежал из гостиной.
Маленькая комната была залита мутным лунным светом, огромный черный крест – тень от оконной рамы – заполняя всю комнату, лежал на полу, на тахте, – на столе. Саша быстро зажег свечу, задернул штору, пламя загорелось тихо и ровно. Крест исчез. Саша лег на тахту. Глаза были сухие, во рту пощипывало.
Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник…
Пушкин… Знает ли он, сосланный, гонимый, о восстании?
Читать дальше