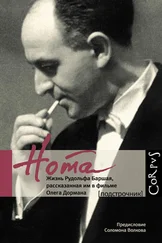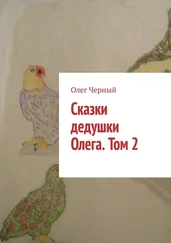— Эх, вы, — говорит Яроша. В голосе его слышится разочарование и жалость. — Не знаете.
— Не знаю, — простодушно соглашается Ромка.
— Вот так надо.
Яроша передает ружье Ромке, садится на пол, закрывает лицо руками и начинает тихонечко скулить, приговаривая: «Бедненькая я, бедненькая. Никто меня не жалеет. Охотник гоняет, собака гоняет. Нет покоя мне ни днем, ни ночью. Да кто же меня приласкает! Да где же мне спрятаться!» Ромка с уважением слушает старшего брата. Я тоже одобряю. «Похоже», — говорю.
Моя похвала подбадривает Ярошу и он усиливает интонации. Постепенно причитания становятся все неразборчивее, а плач и всхлипывания все громче. Из соседней комнаты выглядывает испуганно Наташа — жена.
— Что там у вас случилось?
— Ничего, ничего, — смеюсь я. — Играем мы.
— Лисичка плачет, — уточняет Ромка.
— Ну и игры у вас. Прекращай сейчас же, Ярошка!
Но Ярошка только поддает голосу. В нем появляются жалобные дрожащие переливы. Губы Ромки тоже начинают дрожать. Он смотрит на меня и срывающимся голосом говорит:
— Папа, лисичка плачет.
Я чувствую, что сын перебарщивает.
— Ярошка, перестань, слышишь! Мы уже знаем, как лисички плачут.
— Ярошка, мы уже зна-а-ем, — по щеке Ромки ползет крупная капля.
Но из-под ладоней старшего сына слышится жуткое несдерживаемое: «А-а-а-а!»
Ну, парень, совсем разбаловался.
— Кончай, Ярослав! Ты что, русского языка не понимаешь.
Я приседаю и отрываю ладони сына от лица. На меня смотрят вконец зареванные глаза.
— Ты чего, сынок? — пугаюсь я.
Яроша пытается что-то сказать, но изо рта вырываются лишь судорожные рыдания. Рядом подает тоненький голосок Ромка: ы-ы-ы.
— Ромка, а ты-то чего?
— Ли-исичку жа-алка…
Доигрались. Усаживаю ребят на колени (они уткнулись мокрыми лицами в мою грудь) и начинаю досказывать конец охоты. По моему рассказу выходит, что с лисичкой ничего страшного не случилось, что охотник стрелял не настоящими пулями, что в конце концов охотник подружился с лисичкой. И они затем неплохо проводили и будут проводить время. Братья прислушиваются к моему голосу и постепенно успокаиваются. Плач затихает, лишь по спинам пробегают редкие судорожные волны.
Ставлю ребят на ноги, вешаю ружье на стену, и мы всей компанией направляемся в ванную.

Мы идем по городу. Ромка подолгу останавливается перед каждой вывеской и старательно читает их. Ромка недавно научился читать. Напротив одного из зданий сын задерживается дольше обычного. Затем начинает считать этажи.
— Девять, — заключает он и добавляет: — Неправильно написали.
— Ты о чем, Ромка? — отрываюсь от газеты.
— Да вот, — он тычет пальцем в вывеску. — Написано «триэтаж». Я посчитал — девять этажей. Грамо-теи!
Сын презрительно машет рукой и идет к следующему дому. Я подымаю глаза На вывеске крупными буквами написано: «Трикотаж».
Я буравлю головой пол так, что можно подумать, будто у меня на лбу по меньшей мере носорожий рог, бью ладонями об пол не хуже, чем орудует ластами морской лев, и рычу ревом, которому может позавидовать сухопутный царь зверей. Страшно. Да что там страшно — просто жутко. Но интересно. Поэтому Ромка не убегает, а медленно пятится, сосредоточенно наблюдая за моими движениями. В особо опасных ситуациях он предостерегающе кричит: «Ну, ты!» и делает попытки дать стрекача. Но тут же снова поворачивается ко мне лицом, потому что чувствовать спиной и голыми пятками зубы чудища просто непереносимо. Хочется визжать и мчаться куда глаза глядят, вон из комнаты. Но если из комнаты, значит — несчитово, значит — не играем. А играть хочется, хочется бояться и преодолевать страх.
Я с громким ворчанием делаю бросок в сторону, распластываюсь на полу и пытаюсь достать зубами Ромкину ногу. Он взвизгивает, пробует отбежать, но не тут-то было: по сторонам стены — угол. Деваться некуда, и сын решается. Упирается спиною в стену, ладошками мне в лоб и начинает сам напирать. «Ну, ты! Зверюга какая», — натужно приговаривает он. Миллиметр за миллиметром ему удается отодвинуть от себя зубастую голову. Кожа у меня на лбу горит.
— Волосы не рви. Не рви волосы! — прошу я.
Читать дальше