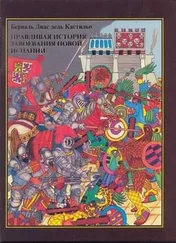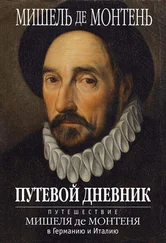Как-то утром, когда Танги был на работе, раздался вой сирены. Воспитанники бросились наверх. Мгновенно всех облетела новость: ученик, работавший на прессе, сделал неловкое движение. Изделие застряло в форме, и он попытался вытащить его рукой. Должно быть, от усталости он невольно нажал на педаль. Тяжелый пресс, весом в несколько тонн, всей тяжестью обрушился на руку несчастного мальчика. Рука до локтя осталась под прессом. Из прессовой неслись отчаянные вопли: «Мама!.. Мама!.. А-а-а…»
Сгрудившись во дворе, все ученики из мастерских ждали с напряженными лицами. Подъехала карета скорой помощи. Из нее вышли два санитара в белых халатах. Они вошли в прессовую, и через несколько минут крики стихли. Раненого вынесли среди тяжелого молчания собравшихся. Он лежал на носилках, бледный как смерть, и казалось, заснул. Танги никогда не видел такого бледного лица. Карета тронулась среди гула голосов, дававших объяснения.
Жмот стоял тут же, а возле него — доктор, капо из прессовой, Красный брат и несколько воспитанников. Танги подошел.
— Должно быть, он сделал неверное движение, — говорил Красный брат.
— Конечно, конечно… — повторял Жмот.
— Какой ужас! — подхватил капо.
— Ужасно! Ужасно! — поддержал его брат.
— Конечно, конечно… — твердил Жмот, который, казалось, не хотел понимать, что произошло.
— Он был совсем здоров? — спросил доктор.
— Совершенно здоров. Еще вчера он бегал по двору, — ответил Красный брат.
У Танги сдавило виски. Ему казалось, что голова у него раскалывается; его захлестнула волна стыда и отвращения. Он дрожал от гнева. Зубы у него стучали.
— Неправда! — закричал он. — Это ложь!
Все головы повернулись к нему. Красный брат побагровел. Он буркнул:
— А ты — марш в мастерскую! Не слушайте его… Это коммунист. Он сидел в германском концлагере.
— Что, испугались? — кричал Танги. — Боитесь, что доктор узнает правду? Ну и пусть! А я выложу ему всю правду! Даже если вы меня убьете! Даже если вы разорвете меня на клочки!
Красный брат в ярости повернулся к капо:
— Маноло, уведи этого припадочного в полировальную мастерскую!
Танги резким движением отстранил протянутую к нему руку. Он оттолкнул ее с отвращением:
— Не трогайте меня! Мне противно! Мерзко!
— Дайте ему говорить. У него, видно, есть что сказать.
Это вступился доктор, небольшой лысый человек в очках, с бледным лицом. На нем был изящный серый костюм, в руке он держал кожаный портфель. Его слова ошеломили Красного брата и капо. Вокруг Танги воцарилось молчание. Глаза его были полны слез, грудь бурно вздымалась от волнения.
— Говори… Как тебя зовут?
— Танги.
— Ты будешь говорить правду, только правду?
— Да.
— Ты знаешь, что тебе придется давать показания следователю, если начнется расследование?
— Да.
— И ты не боишься сказать правду?
— Боюсь.
— Тогда почему ты хочешь говорить?
Танги замялся. Как объяснить доктору, что, если ты остался один на свете, тебе уж нечего терять? Как объяснить ему, что, если человек потерял надежду на лучший мир, он обретает мужество говорить правду? Как объяснить, что, если все, во что ты верил, разрушено, ты уже не можешь, даже в тринадцать лет, бояться людей? Танги ответил только:
— Ну, знаете, что до меня… мне уже все равно!
— Ты правонарушитель?
— Нет.
— Почему же ты здесь?
— Сирота.
— Так что ты хочешь сказать?
— Вы ничего не знаете! Он коммунист! — воскликнул Красный брат. — Он наплетет вам всяких небылиц. Нечего его слушать! Он коммунист!
Доктор повернулся к Красному брату:
— Откуда вы знаете, что он коммунист?
— Немцы отправили его в лагерь.
— Сколько же ему было тогда лет?
— Десять или одиннадцать.
— Коммунист в десять лет? — Доктор устремил на брата долгий, пристальный взгляд, в то время как тот бормотал какие-то бессвязные слова.
— …Он не верит в бога, у него нет ничего святого, — выговорил тот наконец.
Доктор глядел на монаха почти с презрением. Он долго молчал, потом спросил:
— Из чего вы это заключаете?
— Он не исповедуется…
— В другом месте он, может быть, и ходил бы на исповедь. — Затем, глядя Танги прямо в глаза, доктор сказал: — Теперь говори.
Танги плакал. После первых минут возмущения в душе у него не осталось ничего, кроме пустоты и усталости. Он сделал над собой усилие и заговорил:
— Его зовут Антонио Фуэнтес Мазос. Ему пятнадцать с половиной лет. Он работал в мастерской пластических материалов. Там работа легче, чем в других мастерских. На прошлой неделе он попытался отправить тайком письмо домой, чтоб рассказать, что голодает и мерзнет. Он просил мать прислать ему теплое одеяло. Я знаю, о чем говорилось в этом письме, потому что Фуэнтес не умеет писать, и я написал это письмо за него. Он собирался передать письмо капо, который прикинулся его другом. Фуэнтес обещал отдавать капо свои чаевые в течение целого месяца. Капо может выходить в город, и он дал слово, что отнесет письмо на почту… А вместо этого он выдал Фуэнтеса. Третьего дня Фуэнтеса жестоко избили. В дортуаре мы считали, сколько он получил ударов: ровно сто десять. Вся спина у него посинела и распухла… Я сам видел ее вчера. Здесь товарищи часто зовут меня на помощь, когда больны: они считают, что я все знаю, потому что я умею читать и писать. Я всегда лечу их фурункулы и раны. Я ухаживал за Фуэнтесом как умел и смазал ему спину оливковым маслом. Фуэнтес жаловался мне, что временами теряет зрение. Но, к несчастью, тут я ничем не мог ему помочь. Два дня ему ничего не давали есть. В наказание его оставили без хлеба. И два дня он только и делал, что стоял на коленях — в дортуаре, в столовой, везде… Красный брат сказал вам, что еще вчера он бегал во дворе. Это правда, по потому, что его заставили «крутить мельницу». Вы знаете, что такое «мельница»? Нет? Так послушайте. Красный брат и капо стали по углам двора и заставили Фуэнтеса бегать по кругу. Они хлестали его по ногам узким ремешком, который здесь называют «живчиком». А вчера Красный брат велел перевести Фуэнтеса из пластической мастерской в прессовую… Остальное вы знаете сами.
Читать дальше