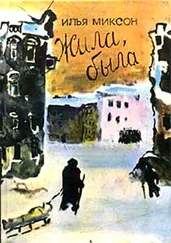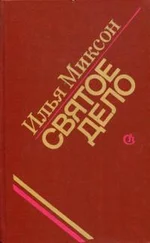Эфир по-прежнему молчал. То есть не молчал — переговаривались десятки радиостанций, но о матросе с «Ваганова» не упоминали.
Николаев опять представил себе квартиру Смирновых, переднюю, вешалку. И два свободных, навечно свободных крючка…
«Нет! — запротестовал Николаев. — Нет, этого не может, не должно случиться! Лёша, мальчик мой, держись! Держись, Лёша!»
Часовая стрелка вползла в красный сектор. Николаев лихорадочно затрещал ключом:
«Всем судам! Всем!..»
Свайка будто понимала, что судьба одного из её лучших друзей всецело зависит от людей в ходовой рубке, от капитана. Она жалась к его ногам, задирала острую мордочку, стараясь встретиться глазами, тихонько скулила и подвывала. Или пробиралась на дрожавших от напряжения ногах к открытой двери и лаяла в темноту.
— Уберите вы её, наконец! — процедил старпом.
Свайка, ласковая, добрая, маленькая Свайка, оскалилась, зарычала.
Капитан поморщился:
— Оставьте собаку в покое!
Из штурманской появился Пал Палыч:
— Где-то здесь, Сергей Петрович.
— Ветер, волны — всё учли?
— Всё. Течение в этом районе можно в расчёт не брать.
— Стоп машина!
Старпом перевёл ручку телеграфа.
— Питание на все прожекторы. Тифон.
«Ту-у-у-у! — понеслось в океан. — Ту-у-у-у-у-у!.. Иду, товарищ, иду! Где ты? Отзовись!»
— Всему экипажу! Смотреть всем!
Ваганов стал описывать окружность, затем перешёл на скручивающуюся спираль.
Рыскали прожекторы. Монотонно басил тифон.
Небо на северо-востоке посветлело. Сначала виднелась узкая неровная полоса бледно-зелёного цвета. Снизу, тяжело опираясь на горизонт, клубились иссиня-чёрные тучи, над ними и выше разливался по чистому небу солнечный румянец.
Океан высветился фиолетовым, лиловым, сиреневым, палевым. Зеркальная гладь — словно во веки веков не бывало никаких штормов.
Взошло солнце. Огромное, яркое, щедро источая на мир свет и тепло.
Прожекторы выключили. Поблёкшие на солнце лучи исчезли незаметно.
Бескрайний слепящий простор выглядел безжизненной пустыней.
— Ещё лево руля. Помалу! Всем смотреть!
«Всем смотреть!» — разнесла по каютам и палубам судовая трансляция.
Смотрели все. Кроме вахтенного механика и его мотористов. «Дед» стоял на мостике.
Ни в одном уставе, инструкции, конвенции нет хотя бы ориентировочных сроков поиска человека за бортом. Нет даже неписаных, традиционных законов. Капитан сам назначает время, сообразуясь с конкретными обстоятельствами и условиями. Учитывается всё — от состояния моря до физических качеств человека за бортом. Есть и ещё один фактор. Его не измерить никакими приборами и индикаторами, не сравнить ни с какими земными и космическими величинами. Фактор этот — совесть.
Она не торопит объявить приговор человеку за бортом. Скольких не спасли, скольких не доискали! Может быть, и этот ещё жив?
— Послать человека на салинг. Подстраховать.
Капитан мог приказать любому из сорока пяти, и каждый из них — кто спокойно, кто скрывая боязнь — выполнил бы приказ не только, даже меньше всего, из чувства повиновения. Человек за бортом!
Нет, не из сорока пяти. Только из сорока четырёх. Сорок пятого, П. Кузовкина, экипаж «Ваганова» молча и единогласно исключил из коллектива. Кузовкин имел право работать, отдыхать, четыре раза в сутки питаться в матросской столовой, смотреть кино, но на судне он стал чужим. Для всех. Он ещё не знал об этом негласном и неписаном приговоре и беспробудно спал на своей койке. Судовой врач успокоил его каплями и снотворным.
Площадка на верху мачты, салинг — самое высокое ограждённое место на судне. Оттуда до клотикового фонаря рукой подать. Сверху виднее, может быть…
Океан — в полном штиле. Ветер упал почти до нуля. И всё же капитан не послал бы на ходу матроса на салинг, но тут — человек за бортом!
— Дозвольте мне.
Лицо Зозули не просто смуглое до черноты, а будто обуглилось за ночь.
— Да, боцман.
— Я подстрахую, Николай Филиппович, — сказал артельный Левада.
Зозуля равнодушно кивнул.
Океан дымил, сжимался, на глазах пропадал горизонт.
В посвежевшем воздухе «курилась» тёплая вода. Низкий, под планшир фальшборта, туман стелился, клубясь, над самой гладью.
Казалось, что судно бредёт в утреннем тумане по осеннему лугу. Внизу, по пояс, — сплошная молочная парь; наверху — небо без единого пятнышка.
— Всё, теперь всё… — убитым голосом сказал Левада.
— Ты чего? — нахмурился Зозуля. И рассердился: — А ну брось нюнить! Моряк ты или кто? Спасём Алексея! Иначе и быть не может.
Читать дальше