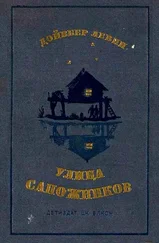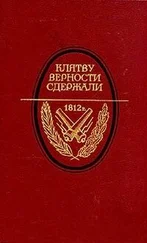— Ну?
— Вот те и ну!
— Здорово, молодцы!
Сорока осторожно, чтобы не задеть кого, переступил порог. Остановился. Стоял, широко расставив ноги, в буденновке, в галифе. За поясом жестяная какая-то штука, бутылка — не бутылка.
— Бомба! — шепнул Степка.
— Не бомба — граната! — сказал Ванька.
— Я говорю: здорово, молодцы!
Никто не ответил. Ребята стояли тесной толпой, глазели, моргали, молчали. Только в углу у окна не то всхлипнул, не то вздохнул Ленька:
— Здрасти…
Сорока подошел к Акулине. Поздоровался. Кивнул на Федьку.
— Ваш?
— Мой! — радостно и гордо сказала Акулина. — Сын родной!
— Ничего, — сказал Сорока, — ничего парень. Из пулемету-то, правда, не того. Да не беда. Надо будет — одолеет.
Сенька уверенно махнул рукой.
— Одолеет!
— Грамоту-то вот осилил, — сказал Сорока.
— Осилил? — обрадовалась Акулина.
— Осилил. — Сорока присел. Достал из кармана карандаш, бумажку. Что-то написал. — Ну-ка, Трофимыч, покажь.
— Можно. — Федька взял бумажку. Подался к окну — видней. Развернул. И вдруг насупился, потемнел: на бумажке прямыми длинными буквами было написано: «Ври, брат, да знай меру!»
— Ты что нацарапал-то? — Федька скомкал бумажку, зажал ее в кулаке. — Не разобрать.
Сенька прыснул:
— Вот так писарь!
— Не разобрать? — Сорока приподнялся, потянулся за бумажкой. — Хочешь, прочту?
— Ладно, — буркнул Федька. — Давай к столу. Обедать будем.
Обед, правду сказать, был невесть какой — одна картошка. Зато картошка была добрая: белая, рассыпчатая. И было ее много. Картошки был пуд.
— Чем богаты, — ставя на стол картошку и соль, сказала Акулина. Сказала и сконфузилась: бедно уж очень. Но Сорока, увидев картошку, так свирепо крякнул, что Акулина повеселела.
— Кушайте на здоровье, — сказала она. — Кушайте, Василий Петрович.
За столом сидели Акулина, Сорока, Федька, Сенька, Степка, Ванька и в самом углу маленький мальчик, Ленька. Однако обедали, ели все — и те, что сидели за столом, и те, что сидели на пороге, и те, что лежали на печи, и те, что стояли в сенях. Федька по-хозяйски, радушно и строго, посматривал по сторонам, следил: не обделили, не обидели ли кого?
— Давай, ребята! — говорил он. — Давай, налегай! Картошки много! Картошки пуд!
А то неожиданно грозно кричал:
— Лешка! Заснул? Что? «Не хочу»? Я те дам «не хочу»! Ешь!
— Ну вот, — сказал Сорока, — вот ты, Трофимыч, и дома.
Акулина опустила голову, всхлипнула:
— Осиротел наш дом, Василий Петрович…
— Слыхал.
— Погоди, мамка, — сурово сказал Федька. — Поплатятся они за батю.
— А вас как? — спросил Сорока. — Не трогали?
— Замучили. Каждый день — на допрос. Хлеб очистили. Корову угнали. Думала — не дождусь я вас. — Акулина подняла голову, улыбнулась сквозь слезы. — Теперь-то уж не уходите. Не надо.
— Ну, нет, — сказал Сорока. — Мы, буденновцы, народ такой: раз пришли — назад не уйдем. Шутишь.
— Вот, вот, — закивала Акулина. Погодя спросила: — А вы сами-то откуда? Далекий?
— Мы-то? — сказал Сорока. — С Кубани. Кубанский.
— Кто ж там теперь? Отец? Мать?
— Никого, — сказал Сорока. — Все побиты.
— Ох, господи! — испуганно прошептала Акулина.
Сорока задумчиво смотрел в окно и молчал. И все молчали. Тихо стало в хате.
— Вот загоним белых — в Москву поеду, — ни к кому не обращаясь, проговорил Сорока. — В летную школу. Летчиком, понимаешь, хочу.
— Летать будет, — пояснил Федька. — На эроплане.
— А страшно? — спросил Сенька.
— А попробуй! — сказал Федька.
За окном загрохотала тачанка. Мишкин голос крикнул:
— Васька! Собираясь! Выступаем!
Сорока нехотя повернулся к окну.
— Чего там?
— Приказ! В разведку!
— А-а-а. — Сорока встал, отряхнулся, вытер руки. — Ну, Трофимыч, — сказал он, — будь здоров. Ежели что…
И не договорил, удивился — Федька тоже встал, строгий, спокойный. Отряхнулся. Вытер руки. Молча, ни на кого не глядя, стал собираться: вытащил из-под стола вещевой мешок, надел шапку-кубанку, накинул ватник.
— Федька! — испуганно сказала Акулина. — Федька, что ты?
Федька подошел. Нерешительно, потупив глаза, протянул руку.
— Прощай, мамка.
— Что ты? — сказала Акулина. — Куда ты?
— Надо.
— Куда надо?
И вдруг поняла — уходит. Только пришел и уходит. И опять никого. И опять одна.
— Не пущу! — Акулина обхватила сына обеими руками. Прижала к груди. Заплакала. — Не пущу!
У Федьки у самого защипало в носу. Эх, ты! Но сдержался — нельзя плакать. Боец же! Буденновец!
Читать дальше
![Дойвбер Левин Федька [Повесть] обложка книги](/books/29512/dojvber-levin-fedka-povest-cover.webp)