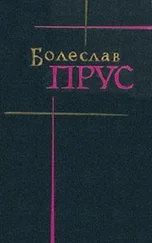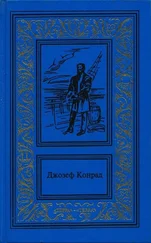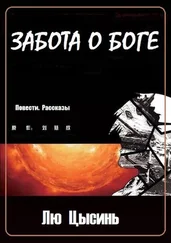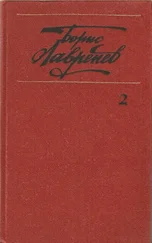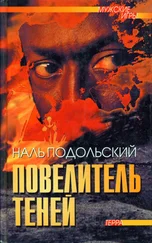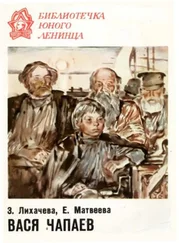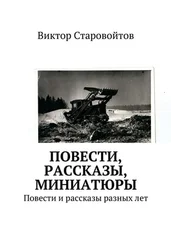Митька крепко прижался щекой к отцовой руке. Потом, подражая отцу, поднял голову, зашагал рядом. Так они шли по деревне, два товарища, а впереди них, злобно оскалив зубы, тряслась на телеге большая лесная беда.
Это была единственная в Наяхане русская печь. Та самая, в чьем жарком чреве замечательно упревают наваристые щи, стойко держится сытный запах хорошо пропеченного хлеба. Словом, пахнет там русским духом, которого искони не терпели всякие кащеи и змеи-горынычи, обитающие за тридевять земель.
Большая, тщательно выбеленная, она занимала одну треть домишка, который стоял на краю вдающейся в море косы.
Зимою рыбаки-эвены, заходя погреться, с удовольствием похлопывали по широким бокам печки, прижимая ладони к горячим кирпичам. Гостеприимные хозяева — засольных дел мастер Василий Ефимович и его жена знакомили гостей со всеми особенностями этого древнерусского комбайна жизненных благ:
— И еду сварить, и поспать есть где! И в случае простуды можно залезть в самую печь и попариться на здоровье духовитым, хвойным веником.
Во время этих лекций свет от лампы-«молнии» проектировал на белой плоскости печи своеобразный театр теней. Топорщились усы Василия Ефимовича, решительно двигалась увеличенная до длины указки тень его указательного пальца. Понимающе кивали кисточки на меховых малахаях гостей. Гости щелкали языком и восхищенно говорили, что печка «сапсем как дом!».
Потом все усаживались пить чай.
Тогда внизу печки возникала тень собаки с острой лисьей мордочкой и крутым завитком хвоста. Покрутившись, все это собиралось в комок, из которого торчали настороженные уши. Собака Нахалка заняла свое место. Каждый раз заходя к старикам, я подозрительно смотрела на печь. Ее присутствие здесь, на краю света, на сером берегу Охотского моря, казалось, не обошлось без вмешательства «щучьего веления».
Издавна русский человек мечтал покататься на широкой печной спине. И вот эта печь из какой-нибудь деревушки покатила через горы, леса, моря, океаны и прикатила…
Но история этой печки оказалась интереснее сказки.
Старикам Дудоркиным вместе набежало сто двадцать три годика. Три года были «гаком», принадлежащим Василию Ефимовичу. Родился он в пыльной степной деревеньке, где зачастую жаркими летами засуха начисто выжигала поля. Пересыхали горла колодцев. Вот почему в один такой голодный год, приехав в Астрахань на заработки, Васька Дудоркин влюбился в необозримую гладь морского простора и вступил в рыбачью артель.
Потом старый икрянщик, оценив расторопность парня, приспособил его к своему делу. Впоследствии, став уже опытным мастером засольного дела, Василий Ефимович не засиживался подолгу на одном месте. Желание повидать новые моря заставляло его кочевать с промысла на промысел. И вот уже стариком, наслушавшись рассказов об Охотском море, он приехал на далекий промысел Наяхана.
Евдокия Степановна безропотно сопутствовала своему непоседливому мужу, молча осваиваясь на новых местах. Василию Ефимовичу не помнилось, с каких пор за ним стала шагать эта хлопотливая, маленькая женщина. А Евдокии Степановне казалось, что всю жизнь впереди нее покачивалась широкая спина мужа, одинаково загораживающая ее и от ветра и от солнца.
Первые годы замужества, заслонив ладонью глаза, стояла она на берегу, высматривая возвращение артельных лодок, и, завидев Васин парус, со всех ног бежала домой ожидать прихода мужа. И как тускнела ее радость, когда Василий, не замечая ее улыбки, проходил мимо рук, готовых его обнять. Неласков был Василий Ефимович. Незаметно подошло время, когда они стали называть друг друга стариком и старухой.
До приезда Дудоркина специалиста-засольщика на промысле не было. Эвены только что начали организовывать свое промысловое хозяйство. Рыбу солили на совесть — лучше пересолить, чем недосолить. А икру… Заглянув в бочки с икрой и увидев там давленое, мутно-желтое месиво, старый мастер разгромыхался, как Илья-пророк. Но, взглянув на виноватые лица эвенов, крякнул и чуть не отгрыз себе половину уса.
Эвены почтительно смотрели, как Василий Ефимович священнодействовал над засолом икры. Тут дело измеряется секундами. Мастер катал икринку в пальцах, брал на язык, усы шевелились, брови вопросительно подымались, потом сходились к переносью — он уточнял время засола. Перемешивая икру в тузлуке, Василий Ефимович выхватывал икринки, растирал их в ладони и наконец давал знак откидывать икру на решета. И вскоре десятки бочек с крупной оранжевой кетовой икрой покатились к причалу в трюмы пароходов.
Читать дальше
![Зинаида Лихачева Вот они какие [Повести и рассказы] обложка книги](/books/28961/zinaida-lihacheva-vot-oni-kakie-povesti-i-rasskazy-cover.webp)