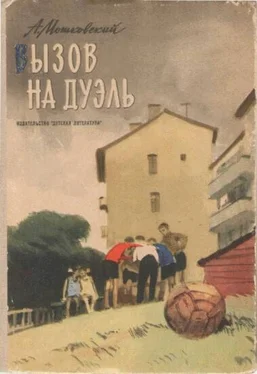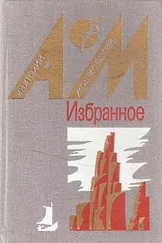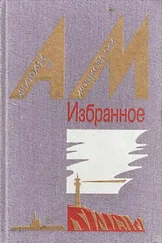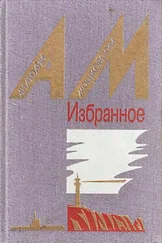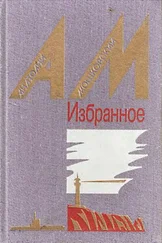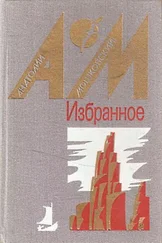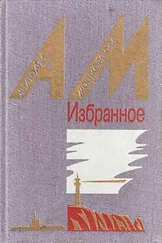Ребята приходили посмотреть на него. Я пересадил его в центральную, более просторную часть западни, и снегири сдружились. В солнечные дни, когда у птиц было особенно хорошее настроение, я тащил маму от кухонной плиты, от борща и котлет, послушать их пение…
Я аккуратно чистил клетку от помета и перышков, подливал в баночку воды, подсыпал корма. Снегирям жилось хорошо, и полной неожиданностью была смерть одного из них, того, которого я купил с западней.
Отравился? Умер от какой-то снегириной болезни? Или от старости?
— От тоски, — сказал отец. — Ему летать хочется, а ты его за решетку.
На дворе уже стоял март, и оставшийся в одиночестве снегирь как-то погрустнел, смолк, замкнулся в себе. Ни разу больше не слышал я его пения. Нахохлившись, сидел он на жердочке и тосковал. Надвигалось тепло весны, и ему пора было возвращаться на север.
И я решил выпустить его.
Открыл дверцу западни, распахнул форточку на кухне.
Снегирь покосился на дверцу, спрыгнул с перекладины, высунул наружу голову и вышел из западни. Сел на бельевую веревку, огляделся. Заметив открытую форточку, перелетел на нее и посмотрел во двор. Там еще стояла зима — снег и голые деревья. Он смотрел туда и не решался улететь. Разучился? Отвык от морозов и опасностей? Пристрастился к готовым зернам и воде?
С огорчением смотрел я на него, моего снегиря.
— Улетай, улетай к товарищам! Ну?
Снегирь не улетал. Это я его сделал таким.
Я подошел к форточке, громко щелкнул по ней, и снегирь исчез.
Скоро я подарил кому-то западню и никогда больше не ловил птиц.

У Людки был острый носик, косы и слегка распущенная на лбу челочка. Я терпеть ее не мог. Когда она проходила по коридору, тонконогая и худенькая, я всегда норовил поставить ей подножку. Но Людка держала ухо востро, перепрыгивала ногу или останавливалась как вкопанная и с укором смотрела на меня. Я ненавидел ее взгляд с хитрым прищуром, ее глаза, широкие и синие. Смотрела Людка весело, открыто и выводила меня из себя.
— Проваливай, чего уставилась!
— Хочу и смотрю.
Я устрашающе выдвигал нижнюю челюсть, шел на нее с растопыренными пальцами, и Людка с визгом убегала.
Но все-таки моя взяла: бежала она как-то с картой по коридору и наткнулась на незаметно выставленную ногу, споткнулась и… и распростерлась на полу. И заревела. Уж очень сильно ушибла коленки. Я схватил ее за локти и приподнял:
— У-У-У-У-У, дурочка, даже падать по-человечески не можешь!
Она вытерла рукавом лицо, шмыгнула остреньким носиком и, прихрамывая, потащила карту дальше.
Другие девчонки были так себе, тоже, конечно, дурехи, но разве можно было их сравнить с Людкой?
Помню, как-то весной я шагал в школу и встретил ее. Людка шла передо мной, такая чинная, серьезная, старательно перебирая своими тонкими ножками. Просто смех разбирал. Конечно, я не мог утерпеть, чтоб не бросить ей за шиворот мокрый снежок.
Людка завизжала на всю улицу — это у нее здорово получается, в этом деле она круглая отличница и может давать другим уроки.
Прокричав, что я дурак, и показав язык, она убежала к школе на своих до смешного тонких, как у жеребенка, длинных ногах, а я шел следом, медленно и важно: будет знать!
На уроке рисования она все время оборачивалась, посматривала в мою сторону и вывела меня из себя. Ну и дам же ей! Я показал ей из-за парты измазанный чернилами кулак.
Людка, как ящерка, высунула язык и отвернулась. Но минут через пять снова стала оглядываться.
Ох и разозлился же я на нее! Потянулся через парту, ухватил за косу и как дерну.
Она отпрянула в сторону, топнула, и учитель рисования поднял над журналом голову:
— Что здесь происходит?
— А пусть не дерется! — крикнула Людка.
— Кто? — спросил учитель. — Пермякова, скажи, кто тебя обижает на уроке?
Людка молчала.
«Ага, боится назвать! — подумал я. — Нужно ее все время держать в черном теле — не будет ябедничать». Я был уверен, что с этого дня она не будет больше оборачиваться и поглядывать. Да где там!
Поворачивалась. Поглядывала.
Тогда я махнул рукой — пусть. Пусть смотрит, если нравится. Мне что, жалко? Но чего ей надо? И зачем таких в школу пускают?
Иногда я смотрел на уроке, как Людка тряпкой стирает с доски старую задачку и, вкусно похрустывая мелом, пишет новую, как, обдумывая условие, трогает пальцем кончик носа, точно смазывает его чем-то, как приподымается, становится на каблук туфельки и поворачивается на нем, как глобус вокруг своей оси.
Читать дальше