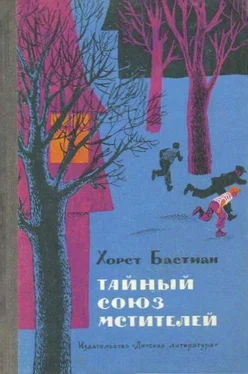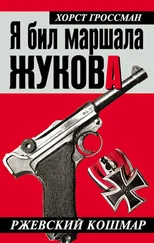Родился он в Польше, а когда настало время идти в школу, пришли немецкие войска. Накануне ночью поляки взорвали мост, чтобы остановить продвижение вермахта, и грохот взрыва напугал Вольфганга до смерти. Он соскочил с кровати и в темноте пробрался к дедушке. Старик и шагу не ступал без своего внучонка, а тот вечно цеплялся за его штанину. А как они с дедом ездили по деревням! Вольфганг сидел рядом с ним на козлах, и иногда оба они засыпали, но Серый все равно находил верную дорогу. У отца было небольшое садоводство, и окрестные хозяева заказывали у него саженцы и рассаду. А они с дедом развозили их по дворам. Домой они возвращались, когда на небе уже сияли звезды, и бабка всегда ругалась: «Дьявол старый, опять насосался! Чтоб тебя черти на том свете слопали! И малого не постыдился ведь! Ну погоди, придешь ко мне на кухню, я тебе покажу!»
Бабушка была легонькая, как перышко, но дедушка все равно относился к ее проклятиям, как к гласу божьему, и молча теребил свою черную, как вороново крыло, бороду. Стоило бабушке замолчать, как он поднимал один палец и говорил: «И выпил-то я один стаканчик, мать. Один-единственный. Вольфганг, малый наш, тебе всегда это подтвердит!»
Вольфганг тут же принимался старательно кивать. Ведь как только они останавливались у какого-нибудь трактира, дед ему первым делом покупал конфеты.
Но долго обманывать бабушку им не пришлось. Однажды она поехала с ними, и тут-то все выплыло наружу. Серый сам останавливался у каждого заезжего двора, и никакими силами не удавалось сдвинуть его с места. Батюшки мои, вот когда бабушка раскричалась!
Потом дедушка умер, а вскоре за ним и бабушка. Должно быть, она души в нем не чаяла, жить без него не могла.
Отец у Вольфганга был совсем другой. Но он его тоже очень любил. Отец носил протез. Ему отрезало правую ногу до колена. В деревне все называли его просто калекой. Но не по злобе. Отец скупился на слова и на ласку, как на деньги, он был строгий. Но когда Вольфганг зимой обрывал в теплице бутоны у тюльпанов и мать принималась ругать его, отец, бывало, говаривал: «Брось ты, садовник вырастет — оно и сейчас видно». И от глаз у него, словно лучи, разбегались морщинки.
Но все это Вольфганг знал только по рассказам других. Потом-то он действительно стал настоящим помощником отца.
А мать? Мать у него была лучше всех. И Вольфганг никогда не понимал, почему это так. Может быть, потому, что глаза у нее были такие ласковые, или потому, что взгляд ее становился таким озабоченным, а улыбка ободряющей, когда ему не удавалось решить задачку, а быть может, и оттого, что ее страх сразу же передавался ему, когда отец в ответ на приветствие «Хайль Гитлер» тихо говорил: «Его уже ничем не вылечишь!» [8] Heil — по-немецки одновременно и «да здравствует» и «лечить»— heilen.
Как-то вечером за ужином она спросила Вольфганга: «А кого бы тебе больше хотелось, брата или маленькую сестренку?» — и покраснела до волос. «Никого я не хочу, — мрачно ответил он, — и не приставай ка мне больше с этим!» Ребята в школе осточертели ему, спрашивая без конца, почему у его матери такой большой живот. Мать сразу поднялась с грустным лицом, а отец тут же набросился на него: как, мол, он смеет так говорить с матерью.
А вообще-то отец был прав: Гитлера уже ничем нельзя было вылечить. Война давно была проиграна, и началось великое переселение. На дорогах — гололедица. И вся их семья сидит на высоко нагруженной фуре. Постель, мебель всякая — все хозяйство. Мимо грохочут танки, в морозном воздухе раздается щелканье бичей, лошади шарахаются и неудержимо несутся вперед. На подъеме Серый поскользнулся и сломал ногу. Пришлось его оставить, а с ним и фуру со всем скарбом. Дальше они взяли с собой только то, что можно было унести на руках.
На вокзале в Накеле их погрузили на товарные платформы, покрытые ледяной коростой. Ветер хлестал синие от мороза лица людей. Замерзший хлеб валился из рук. Из-за клочка одеяла вспыхивали драки.
На третью ночь мать вдруг громко закричала. Паровоз словно задыхался, колеса выстукивали холодные звуки, а ветер срывал с губ матери крики, будто желая разнести их по всему эшелону. Вольфганга вместе с остальными ребятишками оттеснили в дальний угол платформы. Время от времени над ним показывалось лицо отца, которое с тех пор стало словно вырезанным из дерева — белое, мертвое, иссеченное горем.
Крики матери то усиливались, то затихали всю ночь напролет и совсем затихли, когда холодное январское солнце поднялось над зелено-белой полосой далекого леса.
Читать дальше