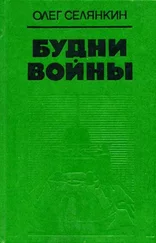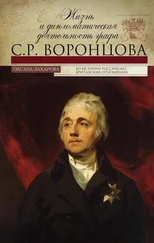— А давай-ка, Женя, заниматься с тобой физкультурой.
— Физкультурой?!
— Ну да, по утрам, каждый день.
— А вы сами…
— Одному скучно, а детей у меня нет.
— Ну… давайте, — неуверенно проговорил Женя, но отказать не мог: Василий Прокопьевич с каждым днем все глубже и глубже входил в Женино сердце. От воспоминаний об отце осталась большая рука, ласкающая его торопливо, точно украдкой. И все. Но отца иметь всегда хотелось.
Рука Василия Прокопьевича чем-то напоминала руку отца, возможно, что была такая же тяжелая с синими набухшими венами, а, возможно, торопливо-ласковым движением, которым прикасалась к Жене. На прикосновения Женя реагировал бурно, хотя внешне оставался спокойным. Он хотел еще и еще этой скупой волнующей ласки. И Василий Прокопьевич день ото дня становился все необходимей.
Как-то Василий Прокопьевич попросил Женю почитать в малышовой палате книжку. Женя засмущался.
— Выручай, Женя. Люсе некогда. А пискуны эти жизни не дают. Ревут, хоть ты что.
Женя пошел в палату, где лежали пятилетие, шестилетие малыши. Через каких-нибудь полчаса малыши облепили Женю, как мухи.
— А хотите ежа посмотреть настоящего, живого? — предложил Женя внезапно.
— Хотим, хотим! — захлопали в ладоши ребятишки, и странная процессия в длинных рубашках, в тапочках двинулась к Жене.
Они хохотали, подразнивая ежа и слушая, как он фыркает под кроватью, недовольный скоплением гостей. Вместе с ними смеялся и Женя.
Потом какой-то карапуз, навалившись на его плечо, спросил:
— А у тебя что болит?
— Я легкие простудил, — отводя глаза, ответил Женя. — Воспаление легких было.
— А у меня вот такой нарыв в горле нарывал, — мальчишка соединил вместе кулачки. — Это все бабушка сделала. Мама уехала, я заболел, а бабушка какую-то тетку привела. Тетка все надо мной шептала, а нарыв рос и рос. Дядя Вася говорит, еще бы немного — и я бы умер.
Над Женей тоже шептали. Он вспомнил сейчас, как лежал мокрый от пота, страдал от невыносимой тяжести в груди, задыхался и горячем бреду, а над ним, подняв немигающие глаза к потолку, сидела женщина в черном платке, крестясь и шепча что-то…
На следующий день рано утром к нему прибежали Иринка и Катька. Катька высыпала из кулька в тарелку такие же рыжие, как она сама, круглые румяные пончики.
— Это тебе Ксюша послала. Сказала, чтоб поправлялся. — И закатилась смехом на всю палату. — Он, если б ты знал, что Шурик наделал.
— Что? — спросил Женя и подвинул Иринке стул. — Садись. Ира.
Иринка села, чуть-чуть покраснев, посмотрела на Катьку и тоже засмеялась.
Катька бухнулась на постель, начала:
— Вчера у Ивашкиных опять старушки собрались. А Шурик к нему на крышу залез. Когда они начали причитать. Шурик и заговорил в печную трубу через это, ну… через трубу такую, — Катька неопределенно повертела пальцами. — «Придите ко мне, рабы мои!» — басом произнесла Катька и опять расхохоталась.
Женя слушал с напряженным вниманием.
— Бабка какая-то услышала это «бу-бу-бу» из печки да как заголосит: «Бога слышу!» А Ивашкин сообразил. Выскочил по двор. Ой, батюшки, вот так проповедник святой! — затрясла Катька полыхающими волосами. — Ругался, как пьяница на базаре.
Катька перестала смеяться, вытерла кулачками повлажневшие от безудержного смеха глаза и добавила:
— Сказал, что выдернет у Шурика ноги. А Шурик сказал, что таких ему чертей покажет, что он сам свои ноги потеряет и выдергивать ничего не надо будет.
— А… м-мама там была? — с какой-то своей, затаенной мыслью спросил Женя.
— А мы никого не видели, — отозвалась Катька и выдала, что вчера на крыше у Ивашкина был не один Шурик. Женя улыбнулся.
— Мать твоя все с какой-то девочкой возится. Черненькая такая, курносенькая, — добавила Катька и наклонилась, заглядывая под кровать. — А где твой еж?
Женя откинулся к стене.
— Это Марина, — не отвечая на Катькин вопрос, вслух сказал он. — Их отец бросил. — И замолчал, думая о чем-то мучительно и трудно.
Катька посмотрела на замолчавшего Женю, переглянулась с Иринкой.
— Какая Марина? — спросила Катька.
— Девочка одна, — не сразу отозвался Женя, наклонился к тумбочке, перевел взгляд на Иринку. Она сидела тихо, опустив голову. Женя ясно вплел нос, темные ресницы, белый пробор и каштановых полосах и белые байты над ушами в тугих, уложенных корзиночкой косах.
«А вдруг и правда она уедет?» — подумал он, и от этой мысли словно померк ясный день. Он не хотел, чтобы она уезжала. Не хотел терять никого. Ни Иринку, ни Катьку, ни Хасана, им Сережу, ни Шурика Он хотел, чтобы рядом с ним были они, и Василий Прокопьевич, и Люся, и вчерашние малыши, и дед Назар, ворчливо упрекающий его за то, что плохо пьет рыбий жир. Он чувствовал, что только с ними, только среди них он когда-нибудь окончательно избавится от всего, что еще нет-нет да и всплывет в Жене, что еще держит цепким коготком какую-то очень больную и нервную струну в его сердце.
Читать дальше