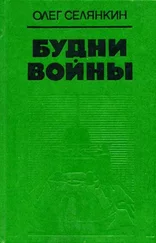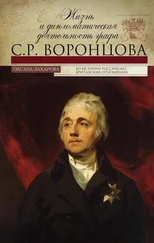— Елизавета Васильевна уезжает к этим… — тетя Ксюша пальцами смешно растянула глаза. — Вот подарки готовим, вареньица, медку… Без этого тоже нельзя, — авторитетно заявила она. — У нас там страх сколько друзей. — Помолчала, безрезультатно морща чистый гладкий лоб. — Чулки шерстяные положить ей, чо ли? — обратилась она к Василию Прокопьевичу и тут решила: — Положу, чай, тамо-ка — Север.
— Кати нет дома?
— Нету-ка, — носясь по комнате, подтвердила Ксюша.
— А она придет?
— Чегой-то придеть… Они в больницу побегли… — И вдруг напустилась на врача: — А ты пошто их туда не пущаешь? Думаешь, одни твои таблетки помогуть? Как же, держи карман шире. — И, не ожидая ответа, умчалась в кухню, чем-то там отчаянно загремела.
Василий Прокопьевич усмехнулся, покрутил головой. «Гром-женщина! Елизавета Васильевна, наверное, и не предполагает, какие без нее «мамаевы побоища» в квартире происходят».
И правда, в присутствии Елизаветы Васильевны Ксюша делалась ниже травы, тише воды. И не потому, что боялась.
— Умственная женщина. Все работають, работают. И как только головка не лопнет! — посвящала Ксюша а свои заботы разговорчивых соседок. — Ну уж я, само собой, косметическую тишину для ее создаю. И кофием пою, Хорошо, говорят, для мозгов помогаить.
Василий Прокопьевич отправился снова в больницу. На крыльце, выходившем в небольшой больничный садик, прямо на ступеньках сидела Иринка, возле нее стоял Хасан. А Катька и Шурик-Би-Би-Си атаковали дежурную, требуя от нее его, Василия Прокопьевича.
— Да нету же его, я нам сказала! Что за беспокойный народ такой, — дежурная в сердцах хлопнула ладонями по белому халату. — Обедать пошел. С обеда — в райком, и будет только вечером. Понятно?
— Понятно, — отрезала Катька. Тогда нам его заместителя позовите.
— Мы все равно не уйдем! — заявил Шурик и решительно поддернул брюки. Лучше позовите.
— Вот я, — подходя к крыльцу, сказал Василий Прокопьевич. — Слушаю вас.
— Ой, Василий Прокопьевич! — Катька чуть не кубарем скатилась со ступенек. Вы так нам нужны!
— И вы мне тоже. Пойдемте-ка ко мне…
Они вошли в палату сразу все и остановились, не зная, что делать: Женя, кажется, спал. Он лежал на спине похудевший, тонкий, натянув до подбородка простыню. На тумбочке возле кровати в граненом стакане стояли цветы. Иринка их сразу узнала: ландыши — так называют эти цветы здесь в городе. Но не белые, что растут и Подмосковье, а розовые и пахнут ветром, водой и осокой. Перебирая сегодня на базаре букетики, Иринка остановилась на этом. Через больного послала Жене вместе с запиской и с десятком крупных красных помидоров. Но помидоры он не ел: вон они лежат на окне в тарелке, и записочку тоже, кажется, не читал — синенький конверт даже не надорван. Иринка обидчиво опустила голову, но тут же снова подняла. Разве можно обижаться на Женю? Ведь он болев, очень болен. Психоневрастения на почве… Но почва не только не выговаривалась, но и не запоминалась — такое длинное и непонятное было у нее название.
— Ира, — подтолкнула ее Катька плечом. — Он спит или нет, а?
При звуках Катькиного голоса Женя открыл глаза, громадные, потемневшие. Казалось, что на лице только и были одни они, почти черные от беспокойных теней под ними. И весь он, затихший, тонкий, казался листочком, прибитым к земле осенним дождем.

Шурик-Би-Би-Си быстро прошел пространство от порога до койки.
— Что ж ты заболел, Жень? — Осторожно присел он на край кровати. — А мы вот к тебе пришли, все. Только Сережи нет…
— Он с дедом Назаром на рыбалку поехал, — перебила Катька и неловко придвинулась к постели. — Специально для тебя хочет рыбы наловить.
В Женином лице что-то дрогнуло, то ли губы, то ли подбородок, то ли тяжелые ресницы.
— Не надо, — прошептал он и зажмурился. — Не надо. — Приподняв руки, Женя потянул на лицо простыню.
— Да ты подожди, Жень, — Хасан придержал его руку своей смуглой горячей рукой. — Ты сердишься, может? Так ты не сердись. Тебе ведь плохо было. Ты помнишь ли?
Нет, Женя не все помнил, что было с ним и последние дни, не затуманенным осталось немногое. То он все куда-то падал и никак не мог упасть. И от этого нескончаемого падения замирало, останавливалось сердце. И было то жарко, точно Женя уже попал и пекло, о котором говорил брат Афанасий, то холодно. Мать ставила его перед иконами, заставляла молиться, и, как камни тех мальчишек, били его по затылку ее слова: бог, грех, страшный суд… Из темных углов лезли на Женю чудовища рогатые со светящимися глазами. Они хихикали, потирали лохматые лапы, тянулись к Жене… Он кричал в ужасе. Мать опять заставляла молиться. И он, то пылая от жара, то скручиваясь от озноба, молился и падал на пол, холодный, помертвелый, потому что те, страшные, лезли на него даже из икон.
Читать дальше