Я как-то разом увидела всю комнату, в которой уже давно не была — с тех самых пор, как Марулька гладила платье и мы разговаривали с ней об урагане Альма. В наше окно солнце сегодня не светило, а здесь было полно солнца… Нет! Солнца не было! Я уже потом поняла, почему мне показалось, что в комнате полно солнца. На деревянной подставке в центре комнаты я увидела кусок холста — картину. А на ней — море, ярко-синее, как небо после дождика, и белая скала, освещенная солнцем, и высокий корабль, красивый, как «Секрет» из «Алых парусов»! И человек в развевающемся плаще, с непокрытой головой, с глазами и улыбкой Петра Германовича был на картине. Вандердекен!
В первую секунду я ничего не поняла! Я никак не могла сообразить, каким же образом мой Вандердекен попал сюда из-под лестницы. А потом я поняла все!
Это была совсем другая картина! Новая! Капитан, победивший ветер, стоял на берегу! Стоял крепко. Море было за его плечами, крутые скалы слева, а под ногами была земля! Только неба над головой еще не было. Никакого — ни синего, ни серого, ни облачного — оно еще не было нарисовано…
Я ахнула. Или мне показалось, что я ахнула. Наверно, показалось. Потому что Татьяна Петровна снова не услышала и снова не обернулась. Она работала. Она правила кистью лицо капитана, и я увидела ее руку, в которой она держала эту кисть… Кисть была намертво прикручена к маленькой ладони тугим широким бинтом. Фаинка сказала правду! На руке у Татьяны Петровны не было пальцев.
«Она безрукая, — сказала мне Фаинка там, на холме. — У нее же только на левой руке два пальца. А остальных-то пальцев нет. Которых вовсе, которых до половины… И на левой, и на правой! Она такие перчатки носит. В Москве сделали. С пальчиками… Для красоты… Мы думали — вот красиво. А оказывается — бутафория!»
Теперь-то я вспомнила все!
Я вспомнила, как Марулька бросалась к двери, чтобы распахнуть ее перед Татьяной Петровной, когда та протягивала к дверной ручке свои неживые пальцы… Как она сама чистила картошку и варила манную кашу, а Татьяна Петровна уговаривала ее не чистить и не варить, а купить кефира… Теперь я понимала, почему тогда Татьяна Петровна не подняла цветок с крыльца и почему остановилась перед обломками башни, словно вспомнив о чем-то. А ее привычка держать руки под платком — тогда она была без перчаток, наверно… Я вдруг ясно представила себе, как трудно было Марульке в ту ночь, когда Татьяна Петровна уносила картины из комнаты, чтобы спрятать их от художников, и сама зажигала лампу, а она, Марулька, лежала в постели, притворялась, что спит и мучилась оттого, что не решалась помочь ей…
Теперь-то я знаю, зачем Марулька тогда, на второй день, следом за матерью лазила в башню — ведь Татьяна Петровна, наверно, не смогла бы хорошо укрыть картины от дождя. Марулька это знала… Лежа на диване под старым папиным пальто, я вспомнила все это.
Одного только я не могла припомнить — как я ушла из Марулькиной квартиры час назад и заметила ли меня Татьяна Петровна или нет.
Кусок неба в нашем окошке стал чистым и голубым, облака ушли. И сразу все изменилось, стало другим: и дом на противоположной стороне, и крыша нашей фабрики, и кусочек далекого горизонта. А у меня все еще по-прежнему шумит и гудит в ушах, словно где-то совсем рядом плетется море. Огромное! Подступает прямо к нашему окну, плещется у порога. Набегает на крыльцо маленькой робкой волной, которую легко разбить и расплескать… Она похожа на Марульку. А потом набегает волна посильнее — мягкая и нежная, как мамины руки, и ворчит-ворчит: «Господи, и как только ты управляешься с бандой этих преступников?» И налетает на высокую скалу и вздыхает горько… А потом налетает грозный девятый вал и шумит, шумит… Может быть, это Колька Татаркин расшумелся? А вот выбирается из морских глубин глупая смешная каракатица, вздыхает и начинает просить: «Отгадайте, что я изобразила». А далеко, почти на самом горизонте, неизведанные земли, еще никем не открытые острова и целые материки… Море плещется у самого нашего порога!
— Люсек! — сказала мне мама, подойдя к дивану, — Ты мне не нравишься.
Будто бы я сама себе нравлюсь! Я — чудище! Идиотка! Лупоглазый осьминог! Акула!
Я выпростала из-под пальто руки и посмотрела на свои пальцы. Шевелятся. Могут держать ручку или карандаш. Или кисть. Могут пришивать к платью божьих коровок. Хоть сто, хоть тысячу божьих коровок! А она не может. И все-таки высаживает капитана Вандердекена на берег! Неужели только потому, что одной девчонке захотелось, чтобы он все-таки победил ветер?..
Читать дальше
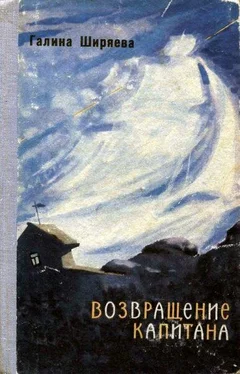
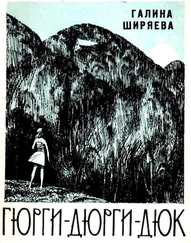







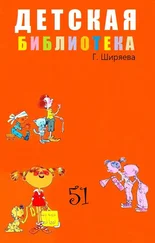
![Галина Романова - Возвращение немого [CИ]](/books/415708/galina-romanova-vozvrachenie-nemogo-ci-thumb.webp)

