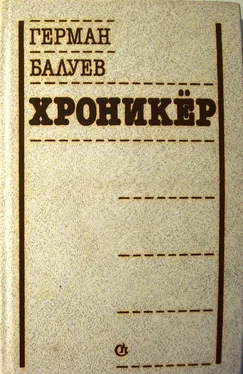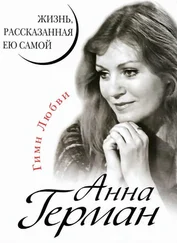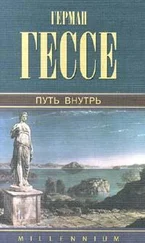— Ты что? — заорал на Мальвина Грошев. — Ну и что? Чего тут такого? А обо мне он лучше, что ли? Может, так и надо. Верно, Леша?
Я достал платок и вытер взмокший лоб. Душно мне вдруг показалось в этом складе и тесно, как в мышеловке.
— Сил и в самом деле было мало, — негромко сказал Мальвин. — Пять лопат брошу и лягу. Дурак был, — сказал он. —Да и всего-то мне было пятнадцать лет. Вот и убежал. Поймали — и в колонию. И оттуда убежал. Поймали — и в лагерь. Вот и вся моя жизнь. — Он подождал, не скажу ли чего. — Все правильно: тюрьмой пахнет.
— Мальвин! — Багровое, словно бы облупленное лицо Грошева яростно придвинулось к серому личику начальника ОРСа. — Было или не было? — грозно спросил он. И повернулся ко мне. — Правильно я ставлю вопрос?.. Во! Молчит! — взглянув на Мальвина, сообщил он мне. — Значит, я попал в точку! — Он снова повернулся к Мальвину. — Почему молчишь, Мальвин? Как бы ты хотел, чтобы о тебе написали? А ну-ка скажи! — Он повернулся ко мне. — Молчит! — Он торжественно встал и пожал мне руку. — Спасибо, Алексей Владимирович. — Сел и крикнул Мальвину, как глухому: — Ты понял, Мальвин, за что?
— Понял, — сказал Мальвин.
— А я пить решил бросить, — небрежной скороговоркой объявил Грошев.
Мальвин внимательно на него взглянул.
— Зачем?
— Не понимает! — изумился Слава. — Ну что за человек? — Он повернулся к Мальвину. — Ты что за человек, Мальвин? — Грозно подождал, выхватил из ящика бутылку и с грохотом поставил на стол. Яростно подождал реакции Мальвина, не дождался и обычным голосом спросил меня: — Можно?
Я кивнул и бросил на стол пятнадцать рублей, которые Мальвин опять убрал в коробку.
— Вот на него посмотрел, — показал на меня Грошев, — и решил! Понял?
— Понял, — сказал Мальвин.
— Чего ты понял?! — рассвирепел Грошев. — Жить надо по-человечески, ясно? Пора уже!.. Утром кофию попил и вышел чистенький, в красивой шляпе — вот так! Почему я не имею права так жить?! — Он повернулся ко мне. — Вот у меня какая программа, Леша. Одобряешь?.. Я же все умею, Лешенька. В одно касание! У меня по шести специальностям — высший рабочий разряд. Много таких, как я? Да, может, сотня на всю страну! А за границей и вообще таких универсалов нет. Там человек один рабочий прием освоит — и давит, вышибает деньгу!
— Вы к Курулину приехали? — спросил меня Мальвин.
— Ну... Можно сказать и так.
Мальвин кивнул:
— Серьезный мужчина! — Он помедлил. — Настоящего начальника ОРСа снял, меня поставил. Зачем?.. Может, он меня подставил, чтобы... я чужие грехи...
— Ну уж ты, Мальвин! — возмутился Слава. — Ты о Курулине так не имеешь права и думать!
— Вы не могли бы, Алексей Владимирович, узнать? — вскидывая и опуская глаза, спросил Мальвин.
— Что?
Уй, Мальвин! — ужаснулся Слава.
Мальвин длительно помолчал, затем поднял стакан.
За ваши творческие успехи, Алексей Владимирович, — сказал он так, словно о серьезном мы уже столковались, а теперь уж можно высказать и личную приязнь. — Ваша книга обо всех нас, и теперь ваш приезд...
— Стоп, Мальвин! — взревел Слава. — Давай я тебя поцелую, Леша. Мы твои друзья. Ты нас не забыл?
На длинной, залитой лунным светом веранде я выложил на обеденный стол купленные у Мальвина «подарки». За громоздким, самодельным, готической высоты буфетом спал Андрей Янович, накрывшись ватным одеялом и шубой. Широкое окно против его койки было настежь раскрыто. На стареньком письменном столе под окном было в невообразимом хаосе навалено: плоскогубцы, кусок сургуча, огарок свечи, разобранный фонарь, моток проволоки, золотые карманные часы, школьные тетради, конверты, очевидно, заинтересовавшая его как материал для поделки лошадиная кость, свежие литературные журналы, а также журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Техника — молодежи», «Наука и жизнь», «Садоводство». Только журнал «Здоровье» он игнорировал. У него была своя система жизнеобеспечения, и сейчас, на девятом десятке, он еще ничем не болел, спал до снега на веранде, ел только натуральное, каждое утро пешком или на велосипеде совершал десяти-пятнадцатикилометровую энергичную прогулку, никогда не сидел без дела — либо копался на огороде, либо в мастерской пилил и строгал.
В 1917 году он был председателем ревкома в Воскресенском затоне. Потом комиссаром на восточном фронте, потом директором громадного машиностроительного завода, потом репрессирован, после десяти лет лагерей остался на Колыме, занимал на золотых приисках все возрастающие должности. Вернулся, как он выражался, «на материк» цепкоглазый, настороженный, со ста тысячами рублей на книжке и набором слесарного инструмента, выбрав для доживания поразившие его еще в годы революционной неистовости богатые охотой и красотами волжские места.
Читать дальше