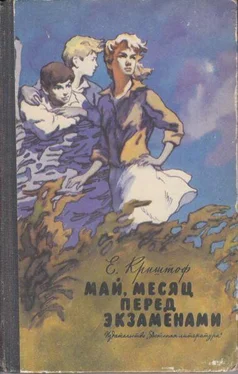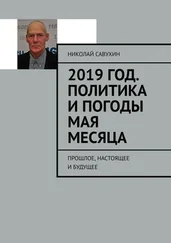— Ты что, весь земной шар решила облагодетельствовать своими прутиками, Рыжова?
Однако скоро я перестала думать о Нине, о Семиносе, о Викторе и вообще о ком-нибудь из ребят. Я думала о себе и Алексее Михайловиче. Иногда я пыталась усмехнуться этим мыслям или почувствовать от них какую-то неловкость, но у меня ничего не получалось.
Мне было хорошо, как бывает хорошо человеку на лугу в ясный теплый день, когда он может упасть в траву и довериться земле, небу, облакам. Или, может быть, мне было хорошо, как бывает хорошо женщине, наконец добравшейся до своего берега.
Ах, всем нам нужен такой берег, как бы мы ни надували паруса и какие бы гордые лозунги ни выбрасывали. Ведь даже океан переплывают с надеждой вернуться.
Так думала я и все шла, шла по поселку. А ночь подвигала ко мне вплотную не только сирень с ее запахами и бликами, но и резкое свечение звезд, и крик гусей, и округлость Вселенной. А Вселенную огибали не только ветры, но и песни, и, надо думать, надежды…
Глава четырнадцатая, в которой автор рассказывает о событиях, случившихся раньше, чем те, что описаны в предыдущей
Нельзя утверждать, что все сказанное классным руководителем на уроке геометрии Виктор должен был принять на свой счет. Как вы помните, Анна Николаевна сама досадовала на себя и хотела увести разговор в сторону от противопоставления Шагалова инженеру Антонову. Заняться этим противопоставлением она собиралась перед другой аудиторией!
Так что у Виктора была полная возможность сделать вид перед самим собой и товарищами, будто ничего не произошло, будто просто в классе состоялся очередной разговор на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». Не настолько интересный, как предполагалось вначале, когда они ждали его, как праздника, но, в общем, ничего себе разговор — на уровне…
Да, у Виктора есть полная возможность отнестись к случившемуся именно так. Но что-то ему не хочется относиться к случившемуся именно так. Не хочется ему также идти к Милочке и решать с нею задачи, как договорились они еще с утра. Он просто-напросто готов улизнуть от этих задач, а главное, от того легкого, беззаботного тона, который установился между ним и девочкой.
Тон этот как бы предполагает: никакие неприятности не могут случиться с нами. Не может быть у нас не только неудач — огорчений. А если и случатся, кто помешает пропустить их мимо, ну в крайнем случае — по касательной, чтоб совсем-совсем не было больно.
Виктор не видел безразлично-ясного лица, с каким Милочка слушала все тирады Анны Николаевны, но почему-то он совершенно уверен, что у нее было именно безразлично-ясное лицо. И ему не хочется встречаться с нею хотя бы сегодня. Не хочется, и все тут.
И вот бредет он позже всех своих товарищей по пустынной Школьной улице, и лицо у него опущено вниз, словно он что-то ищет у себя под ногами.
Но торопливые шаги раздаются сзади него, и перед Виктором предстает Милочка.
— Ты к нам? А я думала, куда ты делся? Мама ждет обедать. Она просила — ты непременно позанимаешься со мной.
Милочка болтает так, отдав ему папку с тетрадками, подкалывая рассыпавшиеся волосы, сегодня уложенные по-новому, не так высоко и не так жестко. Из-под свободных и наивных прядей смотрят такие же наивные глаза, может быть все-таки и вправду не заметившие, что он уже давно прошел тот угол, где обычно сворачивают к Звонковым.
Еще за минуту перед этим Виктор не хотел встречаться с Милочкой, по крайней мере сегодня. Но вот Милочка идет рядом, перебирая слова своим ласково стеклянным голоском, и… А может быть, это и есть то, что тебе нужно, Витенька, сегодня, потом и на многие годы вперед? Взмах темных мохнатых ресниц, медовая теплая ясность взгляда, и речи вовсе не самые важные, не самые главные, но зато и не ковыряющие гвоздем, не саднящие этакой увесистой занозой… А? Как считать?
Он не знает, как считать, и, так и не узнав, доходит до самого Милочкиного дома, а на пороге их встречает, как будто даже специально ждет, сама Людмила Ильинична. Она, в розовой непривычной кофточке с мелкими перламутровыми пуговичками, больше чем когда-либо похожа на Милочку. Она как будто сама чуть смущена этой молодой кофточкой без рукавов, и лицо ее то и дело теряет выражение привычной официальной уверенности.
Она переставляет приборы на столе сильными, властными руками, и руки эти со слегка отогнутым большим пальцем, суховатые, белые, кажется, сами любуются своими четкими, верными движениями. И только цветов они касаются напрасно. Приборы, может быть, и следовало переставлять — цветы и так стоят хорошо. Голубые гиацинты в большой и низкой хрустальной вазе.
Читать дальше