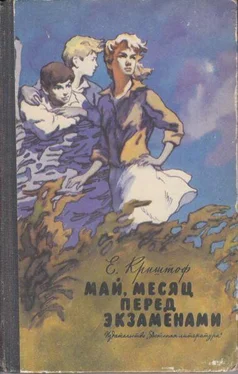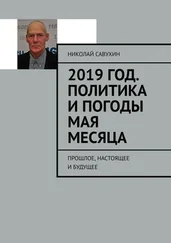Когда я вернулась в комнату, Алексей Михайлович сидел, низко опустив голову, как могло показаться, рассматривая рант своего ботинка (он даже ковырнул ногтем этот рант).
— Хотелось бы мне все-таки знать!.. — начала я.
Но Алексей Михайлович, перебив меня, ответил на мой еще не заданный вопрос:
— Я думаю, он приходил к вам заряжать какие-то свои аккумуляторы, а не для сногсшибательных сообщений.
— Хотя сногсшибательные сообщения могли быть, потому что события имели место?
— События безусловно имели место.
Алексей Михайлович опять потрогал этот дурацкий рант.
— Виктор пришел от Звонковых, — сказала наконец я, чтоб он не накручивал там бог весть чего, считая, что события случились в доме Антоновых.
— От Звонковых?
— Хотела бы я все-таки знать, какие пласты там обнажились? Что такое продемонстрировала Милочка, отчего он кинулся прочь?
— Хотя, если говорить о пластах, пластов он и дома мог наблюдать достаточно.
Алексей Михайлович сказал это с досадой, и даже вина какая-то была у него в голосе. Я знала за ним это умение ощущать себя виноватым во всех недоделках мира и, уж во всяком случае, лично ответственным за то, что случаются еще не только на нашей планете, но и в нашем государстве подлости и пакости, побеждающие хоть на короткий момент. В подобных случаях он держался так, точно от имени своего поколения когда-то давно давал слово оборудовать для счастья окружающую жизнь гораздо более основательно, чем она оказалась оборудованной.
— Они помирятся? Нина и Виктор? — спросил Алексей Михайлович.
— Помирятся…
Алексей Михайлович стукнул друг о друга костяшками кулаков, и во взгляде у него мелькнуло острое, будто он отметил какую-то неизбежность. Поставил какую-то точку. Я знаю, что за точка это была. Он подумал о Ленчике Шагалове. Но следующая его фраза относилась не к Ленчику, к Виктору:
— Я боюсь: он не раз попытается выбрать тропинку полегче. Его мать тоже когда-то хотела прожить необыкновенно чисто и стать сильной. Она ведь даже на фронт чуть не отправилась.
— А потом?
— Потом я пропал без вести.
— И появился Антонов?
— И появился Антонов.
Алексей Михайлович потер лоб, и было непонятно: пытается он что-нибудь вспомнить с большей ясностью или, наоборот, отогнать от себя воспоминания. Как будто нехотя он добавил:
— У нее был того рода хрупкий романтизм, который, как показывает история, часто выветривается с годами.
— Если еще рядом Антоновы-старшие…
— Да, Антонов умеет учить жить. За сына, я думаю, он будет держаться погорячей, чем за Юлию Александровну. Хотя и там было достаточно жара.
Мне было больно смотреть на это большое, светлое, обычно очень спокойное лицо. Хотя я понимала: все написанное на нем относится к молодости Юлии Александровны, к молодости Алексея Михайловича, к прошлому вообще. А зачем же топтать ногами прошлое, даже не исполнившееся?
Но было другое исполнившееся, касавшееся только нас двоих, и мы не могли уйти от него, как бы ни оглядывались на ошибки, разочарования и полагающееся в нашем возрасте благоразумие. Однако мы все еще говорили о Викторе.
Наверное, в эту ночь, с ее тревожным мерцанием зарниц, многим не удавалось сразу заснуть. Что касается меня, повертевшись на тахте, я встала и вышла на улицу. Мне хотелось просто так пройтись по безлюдью, обдумать, что же, собственно, произошло. Можно было, конечно, идти по нашему поселку в любом направлении, только ноги сами понесли меня к соседнему кварталу, где должно было светиться, по крайней мере, хотя бы одно из окон в квартире главного инженера. Одно окно действительно светилось. Окно Виктора.
Не знаю, чем на этот раз был озабочен Виктор или какие там, в семье у них, велись разговоры. Я же была озабочена вот чем: добежал ли он все-таки до Нины? Не ошиблась ли я, когда посчитала, что визит ко мне состоялся так, по пути?
Это было очень важно. Возможно, не только потому, что я просто для них самих, для Нины и Виктора, хотела, чтоб они помирились. Это было важно как утверждение справедливости, которая имела самое прямое отношение уже ко мне лично и что-то мне лично обещала.
А высоко в небе кричали гуси. Я не могла удержаться, чтоб не представить их себе всем известными гусями Рылова. Шерстистое от холода море просторно лежали под ними. Они летели над моими дальними странами, и я подумала о них на этот раз без грусти.
Справа и слева (по какой бы из ночных улиц я ни двинулась) меня сопровождала стена сирени, и белые кисти ее блестели в свете луны. Сирень рождала почему-то представление о первом, но обильном и плотном снеге, и сравнение ее с лыжницей нисколько не казалось странным. Я вспомнила, как мы сажали эту сирень по всему новому поселку. Сотни, тысячи кустов. И как возмущалась Нина Рыжова, когда кто-то из ребят спросил:
Читать дальше