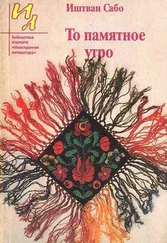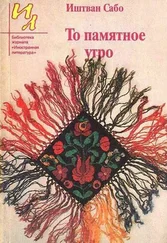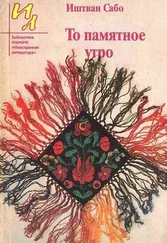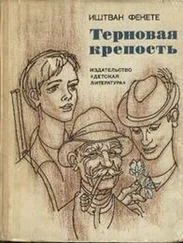Словом, она предпочитала говорить по-немецки, хотя венгерский знала превосходно, но даже к венгерской речи примешивала немецкие слова.
Я не любил эту свою бабушку, и не без оснований, так как она тоже явно недолюбливала меня. А после того как однажды меня на лето отвезли к ней «пообтесаться», это чувство лишь усилилось во мне. Охлаждение было взаимным несмотря на то, что ее забота обо мне и моем воспитании была поистине образцовой, хотя и методически неверной. Лаской из меня можно было веревки вить, но резким окрикам — да тем более по-немецки! — я не подчинялся. А уж когда она как-то раз сказала: «Что с тебя взять, дитя мое, ты — мадьяр, к тому же из крестьян…» — чаша моего терпения переполнилась, и с той поры между нами установились чисто официальные отношения.
Бабушка, будучи в некотором роде солдатской сиротой, в молодости состояла приживалкой при какой-то графине и графскому семейству пела дифирамбы, сделавшие бы честь даже святым. Я только одного никак не мог понять: зачем ей понадобилось выходить замуж за дедушку, который был до мозга костей исконным мадьяром? Все дедушкины родичи и кумовья стригли бороду под Кошута, и лишь у него самого была бородка а-ля Франц-Иосиф — не иначе как под бабушкиным влиянием.
Их дом напоминал аптеку, стерильно-бездушной атмосфере которой малую толику человечности придавали лишь дедушкины курительные трубки. Всему в нем было свое место и время, от которых невозможно было отклониться ни на секунду и ни на миллиметр.
Если я забывал положить на место календарь, то дело доходило до «скандала», а стоило мне хоть чуть опоздать к обеду, и это расценивалось как schweinerei — свинство с моей стороны. Существовал строжайший регламент, как надлежит держать руки, ноги, голову, нож, вилку, как сидеть, вставать, кланяться…
Да пропади они пропадом, эти правила хорошего тона! — заходился я про себя и весь извелся, пока наконец две недели спустя не увидел Торопку — нашу кобылу с белой отметиной на лбу; я не бросился ей на шею лишь потому, что мне было до нее не дотянуться.
Эти две недели ползли как улитка, хотя каждой минуте находилось свое применение, свое дело, свой порядок! Все наше бытие было подчинено этому порядку, в сравнении с которым строгая дисциплина кадетского корпуса могла бы показаться полнейшей расхлябанностью. Каждый знал жизнь другого, как собственный карман.
Большая часть двора была отведена под палисадник с цветами и дорожками, усыпанными мелкой галькой; каждый обитатель дома получал там свой определенный участок и с наступлением сумерек поливал его, а затем все усаживались вдоль усыпанной камнем дороги на вечернюю сиесту: бабушка — в кресло, дедушка на складном стуле, а я на доильной скамеечке, которую бабушка называла табуретом. Взрослые разговаривали, а я не смел вмешаться в их разговор уже хотя бы потому, что он велся по-немецки. Впрочем и дедушка лишь изредка вынимал трубку изо рта, чтобы сказать:
— Ja!
Кроме этого короткого «да» я от него других слов не слышал.
— Ja! — изрекал он, и его спокойные серые глаза были устремлены куда-то вдаль, где, наверное, люди разговаривают как люди — по-венгерски. Он смотрел куда-то вдаль, может быть, в далекое прошлое, где была другая жизнь, не похожая на бабушкин «порядок».
— Ja! — говорил он и смотрел вслед зыбким колечкам дыма, витающим над цветочной клумбой.
А я в таких случаях подбирал камешки — по цвету и форме, и мысли мои бродили дома: по саду, в конюшне, у Кача, в лесу…
Камешками же высчитывал я и через сколько дней за мной приедут: каждый день черными камешками помечал оставшиеся дни и белыми те, что уже прошли.
— Считаешь? — спрашивала бабушка. — Хорошо, это умная игра.
Ну, так вот письмо этой бабушки первым попало мне в руки. Я узнал ее заостренный почерк и заглянул в письмо без особого интереса. Я бегло просмотрел текст, заранее страшась того, что можно там увидеть, и, как оказалось, опасался я не без оснований.
Дорогая Бетти! — писала бабушка. — Ты знаешь, как неохотно расстаемся мы с привычным комфортом, но я вполне понимаю, что ты стосковалась по дочери. (Зато я совершенно не мог понять, как можно стосковаться по тетке Луйзи.) Да и нашей дочери тоже не помешает вырваться на несколько дней из деревенского захолустья и скуки… (Тут опять нашлось над чем призадуматься, потому что матери скучать было некогда, и до сих пор я как-то не замечал, чтобы ей хотелось вырваться из дома. Нет, я решительно ничего не понимал, поэтому пришлось читать письмо дальше.) Мы прикинули, что тебе бы лучше выехать в пятницу, 20-го, а мы приедем к вам в субботу, 21-го, и тогда Аннуш с Лайошем смогут отбыть в тот же день. Вернешься ты в пятницу же, через две недели, дети — на следующий день, и в субботу же отбудем домой и мы. За ребенка можешь быть спокойна, я за ним присмотрю, как я убедилась, он у вас довольно разболтанный… (Ах ты, вредина старая, — непочтительно подумал я, и настроение у меня сразу скисло: ведь «разболтанным ребенком», за которым та бабушка собирается присматривать, мог быть только я.)
Читать дальше