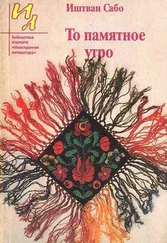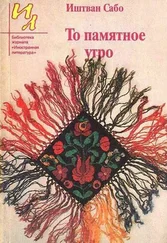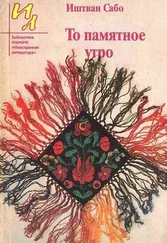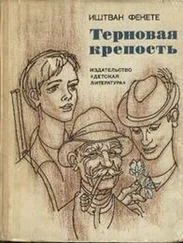— Он постоянно оказывался не при деньгах, — ласково поправило ее старое кресло.
— Что греха таить, была в нас этакая широта души. Так вот однажды пришлось сдать саблю под залог.
— Но она вернулась обратно, — звякнули ножны.
— Еще бы! — согласно кивнула шляпа. — Ростовщик нас чуть взашей не вытолкал за то, что мы хотели всучить ему медную поделку.
— С кем не случается, — великодушно махнула концом монашья веревка. — Однажды, когда наш орден сидел на мели, мы тоже обратились было за помощью к этому старьевщику. Понесли ему старинную чашу, а этот негодяй…
— Выгнал вас? — ужаснулся посох дяди Шини.
— Нет, приветил он нас разлюбезно! Такой крепкой сливовицей угостил, что мы насилу домой добрались. А чашу велел в музей снести, такие красивые старинные медные чаши, мол, по музейной части.
— Вот негодяй! — сверкнули ножны.
— Причем тут негодяй? — тяжело шевельнулся топор. — Что кость — то кость, а мясо оно и есть мясо. Когда-то медные деньги ценнее были, чем нынче золото.
— Вот уж никогда не поверю, — прошуршала шелком нижняя юбка. — Меня барыня купила своей дочке на золото, а уж на что прижимиста была, каждый грош считала.
— Ей и было что считать! — скрипнуло кресло. — Но для дочки своей она ничего не жалела. И чем же дело кончилось?
— Умерла моя голубка, — едва слышно шелохнулась юбка. — Чуть во мне ее не похоронили…
— Вот горе, вот беда! — запищала мышка, которая откуда ни возьмись вдруг очутилась возле балки. — Нет большей беды, чем смерть.
— Чушь какая! — возмущенно скрипнула дорожная шкатулка. — Что за манера совать свой нос в дела, в которых ничего не смыслишь! Смерти нет! Во мне хранятся письма, и они — живы. Живы их мысли, и жива любовь. И даже если бы они сгорели, то все равно и в пепле остались бы жить, ведь то, что было — оно есть, а то, что есть — будет, останется жить в любой форме…
— Разве ты не к нам пожаловал, мальчик? — замок мягко качнулся в петлях.
— Да, — пробормотал я про себя, — если можно…
— Можно, — скрипнуло старое кресло. — Шкатулка разрешает.
— Ах, такие вещи не для ребенка, — колыхнулся краешек нижней юбки.
— Излишняя деликатность недалека от ханжества, — решительно звякнули шпоры. — Что есть, того не скроешь. Да и ребенку не лишне узнать, откуда он есть-пошел…
— Дерзкая мысль! — неодобрительно щелкнула мышеловка. — Что же это получится, если каждая мышь будет знать, для чего существуют ловушки?
— Жизнь — не ловушка, — вздохнула дамская шляпа неимоверных размеров, изукрашенная цветами, птицами и даже фруктами. — Жизнь — это…
— Жизнь — это жизнь! — сурово оборвали ее гусарские штаны. — Живем — веселимся, а помирать придется — тоже не затоскуем. Шкатулка выложила все, как на духу, за это достойна уважения. Ведь она прямо сказала мальчику, что радости не жди, и если это не отбило ему охоту, пусть узнает правду. От этого еще никто не умер.
— Ну, за дело, сынок! — гусарские штаны обратились теперь уже прямо ко мне. — Отца твоего дома нет, дымоход нам все сообщил. Открывай смелее! Сабли наголо и — в атаку!
Рука моя почти непроизвольно двинулась к шкатулке; я поднял крышку и завороженно уставился на уходящие в глубь шкатулки пласты времени, четко прослеживающиеся по перевязанным пачкам писем, платочкам, венку, старинным медалям, и сердце мое сжалось от грустного, чуть похоронного запаха лаванды, пахнувшего из недр старой шкатулки.
Я не сводил глаз с ее содержимого, угадывая в нем не только прошлое, но и настоящее, и грядущее в его туманной недосягаемости.
Окружающий мир слился в моей душе в нечто извечное, вневременное, где всему нашлось место: от долины Кача до церковной колокольни, от кладбища до путевой сторожки в Чоме, от умных, серых глаз Петера до голубых стеклянных пуговиц на жилеточке Илоны К.
Акация перед нашим домом, мельница у плотины, скопища мух в хлеву, лысухи у камышиных зарослей, старинная дубрава, поленница дров во дворе, потерянный мною складной ножик, запах рождественской елки и базарное чтиво, бабушка, тетушка Кати, мои родители… — все вмещал в себя этот мир, все вмещала в себя моя душа, неотделимая от этого мира.
Тот миг, когда я развязал первую пачку бабушкиных писем, как-то выпал у меня из памяти; помню только, что письма эти были от другой моей бабушки, которая в основном изъяснялась по-немецки, должно быть, потому, что от рождения была полькой… Отец ее — уланский офицер из Ченстохова — вместе со своим полком стоял на постое в Надьмайтене, где и появилась на свет моя бабушка.
Читать дальше