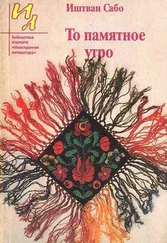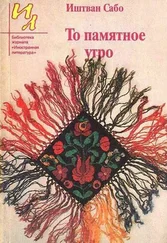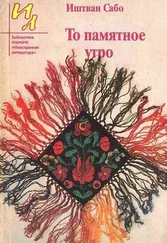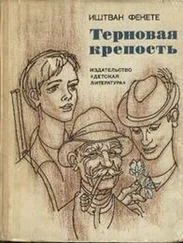— Ключи?!
— Ну да! Я ведь, кажется, по-венгерски сказала.
Тетушка Кати прошла мимо, даже не взглянув на меня. Лицо ее горело чуть ли не обжигающим гневом. Она заперла чердак, подвал, кладовую и отнесла ключи бабушке, а я убрался на конюшню.
Дядюшка Пишта точил самодельный нож для резки табака.
— Не велел мне идти старый господин?
— Нет!
— Вон как! — он с любопытством взглянул на меня. — Или стряслось чего?
— Если вздумаю отлучиться со двора, то должен ей докладываться. А тетушке Кати велела все ключи собрать, — выпалил я непочтительно, даже не назвав «упомянутое лицо» по имени. Но дядюшка Пишта и без того понял, о ком идет речь, и улыбнулся, а точнее сказать, ухмыльнулся.
— Чисто генеральша! — нож звонко цвикал о точильный камень. — Ей бы среди военных порядок наводить…
— Уланша, — пренебрежительно отмахнулся я от своей блаженной памяти прадеда-поляка.
И тут в конюшню ворвалась тетушка Кати.
— Оглох ты, что ли? Ступай табак резать! — и она в сердцах хлопнула дверью.
Дядюшка Пишта нацепил фартук и в этом облачении напомнил мне священника, которому я иногда прислуживал.
На крыльце уже были разложены табачные листья, а рядом сидел дедушка с длинной трубкой в зубах.
— Этот табак из Сулока, а этот — из Копара, — указал он на две кучки. — Бери поровну каждого, а там проверим на вкус. Сулокский будет покрепче, а копарский — какой-то турецкий сорт. Как тубероза.
Ночью я спал с тетушкой Кати; во-первых, я привык к своему месту, а потом мне больше и негде было бы устроиться. Я думал, что мы обсудим с тетушкой Кати сложившееся положение, но заснул, прежде чем она успела отправиться на покой, а пробудился на рассвете оттого, что старуха вертелась с боку на бок и тяжело вздыхала, а кровать скрипела под ней. Я какое-то время ждал, что она, как бабушка, заговорит сама с собой, но поскольку она лишь молча вздыхала, пришлось мне подать голос первым.
— Ай-яй-яй! — прокряхтел и я, давая понять, что башмак жмет, хотя ни один из нас башмаков не носил, кроме как по воскресеньям. Тетушка Кати пользовалась шлепанцами из сукна, к которым сама же подшивала подошву из грубого домотканого холста. Зимой и в грязь такая обувка, конечно, не годилась, но зато, прямо не снимая шлепанцев, можно было сунуть ноги в деревянные башмаки и ходить в них по двору. А затем в сенях деревянные башмаки сбрасывали и с чистыми ногами входили в кухню, потому что в Гёлле каждый дом начинается с кухни, куда справа и слева выходило по комнате.
— Чего не спишь? — спросила тетушка Кати. — А потом меня же еще и обвинят, будто дите разбудила…
— С бабушкой мы обычно разговаривали в это время, — поспешил я оправдать свое раннее пробуждение, на что тетушка Кати снова вздохнула.
— А всему причиной барышня Луйзи, неймется ей. Она и в девках такая была…
— Тетя Луйзи?
— Она самая. Хочешь мать повидать, так садись и приезжай сама, нечего заставлять старуху раскатывать. Опять они, вишь, с господином Ласло сошлись.
— Дядя Лаци хороший…
— Вот оно и беда! Ей бы надо такого муженька, как господин Миклош, он бы ей живо все шарики на место вправил… А у нас тут совсем другая жизнь пошла. Чего только человек не натерпится!..
— Скоро пройдет, — повторил я то, что слышал от других.
— Знамо дело, пройдет! Тебе хорошо: сбежишь из дому, и ладно, а мне податься некуда…
— Мне теперь тоже не разбегаться, тетя Кати. Эта бабушка желает всегда знать, где я нахожусь.
Тетушка Кати не ответила и наверное подумала о том же: сам дьявол не угадает, где через час очутится! Мне-то эта мысль давно покоя не давала. Отправлюсь я, допустим, в восемь часов к Янчи Берта, который вдруг припомнит, что видел на старом пастбище сорочье гнездо. Дорога туда займет час, а когда мы туда дотопаем, окажется, что гнездо уже пусто. Тут выясняется, что у кого-то из ребят есть на примете гнездо лысухи. Пока проверим гнездо, времени уже десятый час. Кто-нибудь из нас предложит искупаться на мелком месте; но там грязная вода, поэтому после придется бежать на Кач смывать с себя ил, — вот вам и десять часов. К тому времени мне вспомнится, что в саду у дядюшки Цомпо созрели яблоки-скороспелки; к яблокам дядюшка Цомпо даст еще и краюху хлеба… Едва успеешь перекусить, уже одиннадцать часов, а там появится дядюшка Декань с соблазнительным предложением:
— Ну, огольцы, кто сегодня полдень пробьет? А то мне люцерну косить надобно…
Отказаться от такого соблазнительного предложения нельзя по целому ряду причин. Во-первых, дядюшка Декань обидится и в другой раз не даст позвонить, а во-вторых, бить в церковный колокол — первейшее удовольствие для нашего брата — ребятни. Вот и приходится дожидаться полдня, а там пока доберешься до дому с ногами, от грязи черными, как у чирка-трескунка, и с клочьями паутины в волосах, — семья уже приступила ко второму.
Читать дальше