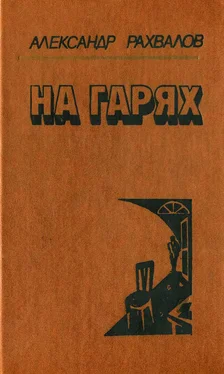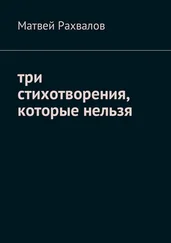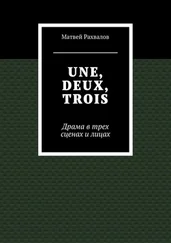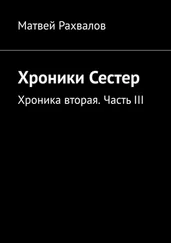Еще по стаканчику выпили. Ни та, ни другая не понимала: есть ли в ней радость-то, в настойке? Вроде выпили, вроде посидели и не на пустом, как сплетня, языке — о чем-то все же толковали и что-то припомнили. Взгрустнулось, всплакнулось… Нет, нравы и обычаи сюда не следует подшивать, ни в коем разе. А Харитоновна-то чего припухла?
— Ты что, родная?
И — пошли по новому кругу.
Тихон бродил вдоль ограды в глубоком раздумье. В предбаннике стояла банка с настойкой, которую подсунула ему Харитоновна. Теперь он страдал: выпить? Нет? Хотелось, ох как хотелось ему выпить, но душа упиралась. Он поднимал глаза… Боже мой! День, какой день накатился! Воздух, казалось, насильно вползал в человека, заражая его здоровою чистотой, протестующей даже против табачного дыма. От тальника, от колышущихся кустов тянуло горьковатым, как навоз в прелой гряде, запахом. Где-то там же истошно кричал и плакал, кувыркаясь над болотиной, потревоженный кем-то чибис…
Тихон боролся: выпить? Нет?..
Возле своей будки крутились собачушки — Динка и Крошка. Обнюхивались. В подворотню прошмыгнул кудрявый с бойкою искрой в шкуре кобель. Такой был только у бичей — сытый, откормленный безотказным поставщиком— городской свалкой, где по сей день промышляла, проклиная обленившегося супруга, Алка.
«Выпить? Нет?»
В такой день нельзя убивать себя; пусть прежде приестся он, разлюбится, как кедровый орех к концу сезона.
Тихон ни разу не вошел в дом после того, как едва не поцапался с женой. Весь день он чем-то занимался. Вначале в бане поправил съехавшийся набок полочек, потом убрался у свиней и в хлеву, больше часа таскал за ограду оставшийся снег в железном корыте.
Скотину он выгнал за ворота еще до обеда. В болотине кое-где пробилась первая зелень, и в этой прожорливой тишине бродили коровы, овцы, поросята… Скоро в Нахаловке наймут пастуха — и скот разгуляется на славу. Когда выгонял теленочка, тот, одурев от воли, начал взбрыкивать и кидаться на крупного подсвинка, пытаясь толкнуть его безрогим лбом. Подсвинку это не понравилось, и он, рявкнув, бросился на шалуна. Тихон подбежал вовремя и цыкнул… «Ну, пошли!» — и скот дружно скатился в болотинку, к кустам. Хозяин стоял и смотрел вослед, улыбаясь.
А там, за кустами, трубили, как лоси, грузовики, всхлипывали «жигулята» — Велижанский тракт не признавал покоя. Жидкая грязь, вырвавшись из-под колес, поднималась и застывала сплошным облаком в воздухе, вровень с тальником. И в душе оставалось только радоваться, что сейчас весна — пускай грязная, но весна, и нет жары, и нет той пыли, что покроет все толстым слоем, и хозяйки будут сдирать ее с коровьих языков железными скребками, как ржавчину. Было свежо, дышалось всей грудью. И он дышал…
«Нет, не буду пить! — подумал Тихон. — Пускай стоит в предбаннике. Представлю, что это — банка с керосином…» Никак не мог он собраться с духом, чтобы взять да выплеснуть настойку в огород, — рука не поднималась, как перебитая.
Сегодня он даже не курил, руки постоянно натыкались на работу. Вытаскав за ограду снег, взялся за коробку, в которую, разбухнув от сырости, не входила дверь. Подтесал, подрезал. Теперь бы за печь взяться, что недавно начал класть на веранде, да кирпича не было. Так и осталось — неровный остов. Здесь — работа, там — работа, без конца, а радости от нее нет. Конечно, жизнь, если ее хорошенько разносить, как новый полушубок, — она послужит тебе, и греть будет, и радовать. Но что дальше? Надо топать на производство и присыхать к настоящему делу. Тоже мне, кулак! Частник матерый… Кулак. Пачка папирос в кулаке — потому и кулак…
На той неделе он заявил супруге: «Пойду работу искать. Может, хоть механиком возьмут. Руки зудят…» — «Не ерепенился бы, — осадила его жена. — В доме столько недоделок, работай пока здесь, не дармоед. Или дурная голова ногам покою не дает?» — «Как ты не поймешь! — пытался сломить ее Тихон. — Здесь — не работа. Мне к людям хочется, понимаешь?» — «Значит, на пьяночку потянуло. Ну что ж, иди, алкаш, повесели свою пропитую давно совесть, душу повесели… Может, свернешь где-нибудь башку свою дурную», — пожелала она. «Свою, свою! Что ты в меня вцепилась!» — «Да нужен ты мне, опоек…»
Но «опоек» не решался поступить так, как хотелось. Он запивал. На целую неделю! Вначале пил водку, а к концу недели был уж рад и одеколону. Провалявшись ночь на полу, Тихон поднимался утром, стараясь не разбудить жену, и шарил глазами: нужно было что-нибудь взять и продать на опохмелку. Что же, что же? Часы пропил позавчера, шапку — вчера… Но вот глаза натыкаются на полушубок: они просидели над ним неделю, собирая из кусков, чтобы в субботу продать на «толкучке» — кончился комбикорм, надо выписывать, а деньги — в полушубке… Он снимает его с вешалки и уходит со двора. Часа три его не будет.
Читать дальше