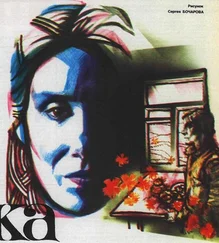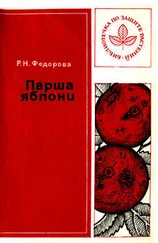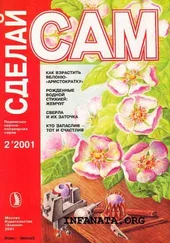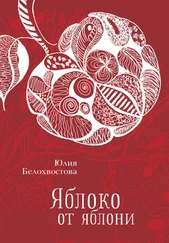Узкая койка. Но белый сверток на ней — еще уже. Деревянный настил кровати под углом: изголовье опущено, низ приподнят. У него сломана нога. И еще рука. И еще не все ясно с позвоночником. Тополиный пух… Стояла, любовалась. Кокетничала…
Рядом с койкой капельница. Стальная игла всажена в тонкую голубую жилку на виске. Это я ее всадила…
— Смотрите, как надо регулировать колесико. Так раствор лучше всасывается, — говорит сестра и доливает в капельницу.
Значит, еще день.
Мишка лежит неподвижно. Он без сознания. Я сижу рядом, на стуле. Это сейчас очень нужное дело — сидеть.
Беру его руку. Ту, что без гипса. Раз… два… три… шестьдесят… девяносто… сто сорок. Частые, напряженные удары. Сто сорок! Температура держится…

А если бы я не стояла и не смотрела на тот пух? Не кокетничала с чужими мужьями? Когда муж позвонит, я ему все расскажу. Все. Ничего не утаю. Не пощажу себя. Он же мне все-таки не чужой — Мишкин отец.
— Мамаша, подвиньтесь. Укол. Напоследок — вам.
Значит, уже ночь.
— Мамаша, градусник.
Это — Мишке. Значит, уже утро. Утром — врачи, обходы, лекарства. Голоса, звук шагов, жизнь.
А ночью…
День, ночь, день, ночь…
Стук капель о раковину. Там, в углу палаты. Кран. Пыталась его закрутить — никак. Днем почти не слышно, а вот ночью… Кап-кап-кап. Громко, на всю палату. Словно гвозди в доску всаживают: кап-кап-кап…
Раз… два… три… шестьдесят… девяносто… сто. Сегодня уже сто!
— Сегодня сто! Всего лишь сто! — сказала вслух.
Кому? Себе. А кому еще? Кто у меня есть? Муж?
Сонечкин муж?..
Раз… два… три… шестьдесят… девяносто…
Кажется, с тех пор у меня появилась привычка считать — ступеньки на лестницах, телеграфные столбы, свои и чужие шаги. Все предметы, все звуки укладываются в этот навсегда впечатанный в сознание ритм: раз-два-три… шестьдесят… девяносто…
Потом мне разрешили выносить Михеича на воздух.
Трава в больничном садике еще густая и зеленая. В ней устало и смирно лежит тополиный пух.
Кто-то поднес спичку, и огненная дорожка пробежала по траве. Пух горел неровно, какими-то скачками, то затухал, то снова вспыхивал. Раз, два, три… шесть, девять…
Когда нас выписали, рябина уже совсем созрела. Позвонит муж, и я ему скажу, как горел в траве тополиный пух. И как мы возвращались из больницы домой. Как светило солнце и какими зелеными еще были деревья на бульваре. И какой красной была рябина у нашего подъезда. Я ему все скажу…
Он позвонил утром. Спросил:
— Ну как вы там?
Я ничего не ответила. Была зима. Дул холодный ветер, остервенело швыряя в окна мелкую крупу.
Он позвонил ровно через год, два месяца и семнадцать дней после того, как мы выписались из больницы. Я же привыкла считать…
Получится или нет? Надо бы потренироваться. В вагоне, правда, трудно, но другого места уже не будет. Так что надо здесь. Сейчас. У артистов это запросто: моргнут раз-другой — и готово. Потоки слез и прямо на глазах удивленной публики. Она, Таня, всю жизнь подозревала в себе скрытый артистический талант. Разыграть, скажем, родителей, одноклассников и даже учителей — все равно, что высморкаться. В прошлом году, в девятом, она так здорово изобразила приступ острого аппендицита, что Синяжка ее тут же в поликлинику направила. Еще и Алку, подружку, в сопровождающие выделила. А отпроситься с урока Синевской, да не с простого, а с сочинения, да еще вдвоем с подругой!.. Только по ходатайству верховного прокурора!
А вот со слезами… То есть, когда не нужны, они тут как тут. А когда надо — никак. Завтра будет надо. Иначе что о ней подумают? Хороша внучка!
Но это не так, бабушку она любила. Очень. Ведь бабушка у нее одна. Папиной матери Таня не помнит, а вот Клавдия Федоровна… Почти все детство прошло у нее в Яблоневке. И если последнее время Таня перестала ездить туда, то не потому, что надоело, а потому, что жизнь такая: то секция художественной гимнастики, то кружок бального танца. Уроки иногда учить надо — десятый класс как-никак… Ну просто финиш! А бабушкина болезнь как раз на такое неудачное время выпала: разгар зимы, они с Алкой и другими одноклассниками в недельный лыжный поход наметились. Снег-то не ждет, чуть рот раскрыл — уже и оттепель, все опять черно. Бабушка говорила, что теперь зимы не те, что раньше. Хотя и раньше было уже не то, что еще раньше, во времена ее матери, Таниной прабабки. Тогда и снегу было завались, и морозов — рождественские, крещенские и какие-то там еще. Зато теперь можно без меховой шубы всю зиму протопать. А мех сейчас дорогой, родителей на него не расколешь.
Читать дальше