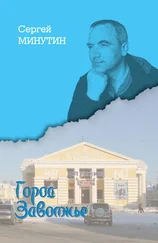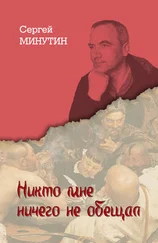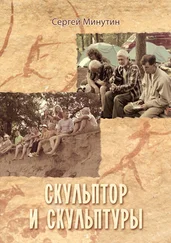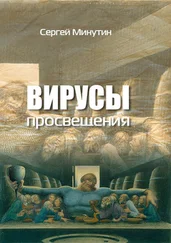Надеждин записывал с точностью математика и аккуратностью химика: Пс = З, где П — путь, с — спасение, З — знание.
Надеждин сразу же полюбил эту формулу, как и число П = З,14. Надеждину стало хорошо. Смущала его только одна деталь в его простой математической формуле. Из этой конструкции так выходило, что только тот, кто додумался до «З», тот и спаситель. Так выходило, что тот, кто в клюве что–то принёс, тот и кормилец. Вроде бы всё замечательно, но только до той поры, пока есть «тонущие», «голодные». Пока они есть, формула работает.
— Но вот, все спасены, — рассуждал вслух Надеждин, — и тут начинается «чёрт знает что». Все сыты, все спасены, всё орут, гадят и пакостят, так как давно «не доены». А раз так, значит сытых и спасённых вновь надо кошмарить, мочить, лечить, обугливать и наставлять на правильный путь.
— На Земле всё так и есть, — ещё громче шумел Надеждин, — так всё и есть. Сначала кормят и спасают, потом лечат и мочат.
Надеждин, словно лектор, вновь ходил по комнате, махал руками, сморкался в носовой платок и кому–то «назидал», глядя поверх воображаемых голов: «Этот процесс, этот путь спасения на Земле обзывают по–разному. Просветлённые на этом пути поставили указатель: направо — «ад», налево — «рай». Хоть указатель от ветров и шумов вертится, как флюгер, но суть от этого не меняется. Это как в шахматах. То приличный человек играет «чёрными», а неприличный «белыми», то наоборот. Но, это известно просветлённым, остальным же этот процесс прохождения пути более известен, как «застой» или «кризис», или даже «подъём». Сказав эту длинную тираду, Надеждин надолго умолк и ушёл в себя. Он углубился в размышления над тем, что есть «ад» и что есть «рай», а также «кризис», «застой» и «подъём».
Надеждин, конечно, благодаря помощи милой и ласковой Музы почувствовал, что для понимания пути человечества надо найти для себя правильное место в оси координат. Но он и так давно это делал, а найти его никак не мог. Наверное, он не знал, что именно надо искать, а главное кем быть в этой оси. И вот свершилось. Он понял, что в оси координат он должен занять место джентльмена или сэра, можно лорда, на худой конец — гражданина. Уместно заметить, что Надеждин вполне подходил под любое из этих определений. Он был свободнорожденный, благонамеренный и рождённый в свободной стране России гражданин. России, стране, в которой в 1861 году отменили крепостное право, а в 1985 году выдали паспорт последнему свободному человеку, а в 1990 году дали право свободного выезда всем её жителям, куда бы они ни захотели уехать, но перед этим лишили всех денег на билеты.
Страна Надеждина была настолько свободной, что джентльмены и сэры в ней просто не выживали, их убивал воздух свободы. Лорды, хоть и обладали иммунитетом неприкосновенности, но побаивались происков местной депутатской знати. Для страны Надеждина эти типажи были чужды. Другое дело — гражданин. Один поэт в наплыве счастья так и написал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Интеллигенция подхватила этот лозунг, ибо она сдуру всё подхватывала, особенно радостно то, чего не понимала, и побежала с ним в народ. В результате активности и усердия интеллигенции у народа на граждан возникла стойкая аллергия, что особенно импонировало правительству. А правительство свободной страны, как известно, опирается на свободный электорат, а свободный электорат, как знал Надеждин из истории своей страны, граждан не переносил «на дух». Свободный электорат так и говорил: «Либо друг, товарищ и брат, либо «на хрен». Тех же, кого всё–таки удавалось убедить в том, что гражданин тоже человек, начинал к гражданам относиться с особым трепетом и вежливо добавлять к слову «гражданин» слово «начальник».
Надеждин страдал. В оси координат своей страны он был и другом, и братом, и товарищем, и «гражданином начальником». Но с этих мест пути спасения человечества разглядеть было невозможно. Невозможно, даже несмотря на то, что уже третье поколение Надеждиных писало в анкетах «происхождение из служащих», что означало наличие у дедушек и отцов высшего образования.
Надеждин страдал. Оси осями, места местами, а человечество надо спасать. В голову приходили самые обычные и самые проверенные пути спасения. Например, один путь спасения был особенно хорош: построить всех в колонну, выгнать на тракт и погнать по этапу, лучше по тундре и гнать так, пока всё человечество не оголодает и не захочет спасаться. Для придания этому пути гуманного оттенка Надеждин был готов назвать его «паломничеством».
Читать дальше