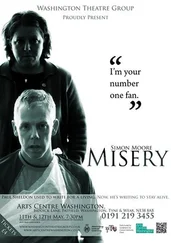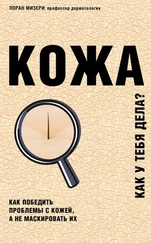Тут Света устала вспоминать и сравнивать. Прошлое не имело к ней отношения, как и слова, произносимые ими с неохотой, вполсилы, точно вопросы и ответы читались по чужому, бездарно составленному тексту, но надо было дочитать, и отступление было запрещено, хоть ничего не стоило Свете шутя заменить вопрос ответом и наоборот. Никто б не заметил…
— У тебя там, в твоей фирме, берут на работу женщин? — спросила Света, путаясь в рукавах плаща.
— Не очень. К тому же возрастной ценз…
— Понятно, возрастной ценз…
— Разве что уборщицей. Ты хочешь, я узнаю? Это примерно сто…
— Не стоит. Я не для себя спрашиваю. Мне и в школе неплохо… Да! Что все–таки у вас с мальчиком? Почему ему не нравится школа?
Игорь ответил. Они вышли из ресторана. Небо над городом бежало прочь, выбеленное уличной подсветкой. Шло к полуночи. Он хотел успеть, пока не развели мосты, отвезти Свету и вернуться домой. В сущности, их последний разговор еще не набрал силу. Ему следовало повториться несколько раз — сто, двести раз! Все оставалось, как было. Ремонт продолжался. Слова не значили ничего ровным счетом. Ровным счетом — ничего.
* * *
Замечено: память может устать. Она может отказаться помнить. Тогда она не будет памятью, или жизнью (память — помнящая — есть моя жизнь, ибо что есть жизнь моя, как непомнящая память?), а будет как змеиная кожа: старая, с правильным, но мертвым узором, чулком слезшая, наизнанку вывернутая. Кто подберет ее, кому надобность в мертвой памяти?.. Ну!
* * *
Застать ее спящей…
Застать ее спящей…
Застать ее спящей он мог, если приезжал ранним утром. В октябре его повысили в должности. Ему удвоили оклад. Работать приходилось и по ночам. Днем он вел синхронный перевод на переговорах фирмы с представителями разнокалиберных провинциальных администраций, а ночью водил по ночным кабакам Петербурга веселые мужские компании, составленные из периодически наезжающих из метрополии ревизоров, консультантов, вышестоящих управляющих и сопровождающих их лиц. Ночная работа не котировалась в среде переводчиков его уровня и возраста. Это была работа для мальчиков, но Игорь соглашался на нее, когда бы его ни попросили. Он рисковал потерять статус, если бы не вел себя тонко и умно, давая понять всем, что «сам не без грешка», и играя — в вечернее время — эдакого анонимного алкоголика, который (не во вред, разумеется, дневным занятиям) не прочь пропустить стаканчик–другой за чужой — казенный — счет.
Но он не пил, гуляя с американцами за одинаковыми столами пяти–шести ресторанов, которые обходил, не нарушая очередности, в месяц, оплаченный ему вперед. Он не баловал себя разнообразием, выбирая место гулянья, и работа эта, кроме денег, давала ему только то удовольствие, что, совершенно трезвый, он с грубым презрением мог наблюдать, как напивались до своих американских чертиков его корректные, превосходно одетые и скорые на улыбку «гости». Он с трудом выносил их днем, ночью же брал реванш.
Он не был пьян, но когда Биллы и Джоны, объевшись икрой, просились домой и он развозил их по квартирам (удобно было, если Билл предлагал Джону продолжить у него, а Джим присоединялся; тогда обратный путь укорачивался втрое; он освобождался раньше трех и, перелетев через мост)…
Когда он, хлопнув по спине последнего Билла (бывало, тот спьяну совал ему tip , Игорь отводил дающую руку… наутро Билл долго извинялся, тряся в знак благодарности за скорое прощение обе длани русского коллеги)…
Когда он, перелетев через последний мост, выносился на проспект, прорубленный в глыбах столпившихся тесно домов (почему–то не ровно — в плоскости реки, как велось в Петербурге от века, — а странно, косо, убегающим вверх желобом, по которому катились навстречу Игорю мигающие янтарные светофоры)…
Когда, завидев поворот, который мог взять с закрытыми глазами, он притормаживал и руль толкал его в грудь, напоминая: вот твое тело, хозяин; вот это — твое тело, а не я — круглый, дрожащий, оплетенный душистой кожей, связанный крепко и тайно с невидимыми колесами… так крепко и так властно–мягко, будто я — мысль, а они — слово; я — желание, они — осуществление; я — …
…не был пьян, но когда, осадив у парадной (листья, спавшие у поребрика, взлетали, потревоженные, и тут же обмякали, сплющивались под колесом), он видел себя идущим по узкой растрескавшейся дорожке так ясно, так со стороны, как бывает только в момент мгновенного выхода из темноты опьянения (вот как если б голос, забытый навек годы назад, вдруг окликнул тебя, невидящего, плетущегося редкими перебежками от столба к столбу, от двери до двери, и ты выпрямился, вспоминая, и — или, как будет, мне говорили, после смерти, а на девятый день, кажется так, можно отвернуться и не смотреть на тело, можно убраться отсюда — прочь, прочь…), — он не был пьян и не забывал вернуться к машине и отключить сигнализацию, и, осторожнее вора прикрыв за собой тяжелую дверь, чтобы не хлопнула, пустив эхо по этажам, он делал свои три шага к лифту, и там, уже закрыв глаза, нащупывал кнопку, пальцем пробежав по всем, и вот последние три шага от лифта к двери, обитой слабо пахнущей кожей, с волоконцами войлока, окружившими замок (я обил эту дверь, думал он, доставая ключ, это дверь — моя), — и, доставая ключ без звона, еще до того, как вложить его в узкую скважину и повернуть… дважды, нет… единожды… почему?.. ах, я уходил отсюдавечером, я закрывал дверь, я возвращаюсь… — до поворота еще, до полного поворота… докороткого, всегда неожиданного, до бесконечно короткого, бесшумного, полного, размыкающего железные недра, послушные недра… все, что внутри… все, что за… все, что за этим…
Читать дальше