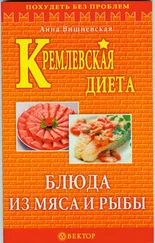Галина Вишневская
Галина
Славе, Ольге, Елене
Яркий солнечный день... Я бегу по зеленому изумрудному лугу - мне неполных четыре года - и с размаха вслед за мальчишками прыгаю с крутого берега в речку... В памяти навсегда остался мутно-зеленый цвет воды, я стою на дне, сжимая и разжимая ладошки вытянутых на поверхность рук - вероятно, чтобы ухватиться за что-то... Мои руки и увидели с берега взрослые и вытащили меня. Я, наверное, не успела испугаться, но помню, что отлупила меня мать как следует. А я ревела и не понимала, почему меня ругают, а мальчишек - нет. Почему им можно нырять, а мне нельзя? Как это так - я не умею плавать? Раз они умеют - значит, и я умею! Вероятно, тогда я впервые пыталась отстаивать свое человеческое достоинство и право на свободу действий.
Это лето - 1930 года - я живу с матерью и отцом "на даче", в небольшой деревне. Взяли меня от бабушки - погостить.
Я не помню своей привязанности к родителям - они всегда были мне чужими. Возможно, оттого, что с самого младенчества - шести недель - меня взяла на воспитание бабушка и все мое детство я слышала обращенное ко мне жалостливое слово "сиротка".
Моя мать - наполовину цыганка, наполовину полька: мать ее была цыганкой, но я никогда не знала деда и бабушку с материнской стороны - они умерли еще до моего рождения.
Когда мой отец впервые увидел свою будущую жену, ему было лишь 20 лет, ей же не исполнилось и восемнадцати. Незадолго перед тем порвав со своим прежним возлюбленным, беременная от него, она переживала тогда свою первую жизненную драму. Мой отец полюбил ее и женился на ней. Вскоре она родила сына, а через два года появилась я. Мать была очень красива - среднего роста, черноглазая блондинка, с длинными, стройными ногами. Помню ее поразительно красивые руки. Но я всегда восхищалась ею как бы со стороны, она никогда не была "моей".
Наверное, от нее - в крови - передалась мне страсть к пению: она играла на гитаре, пела цыганские романсы, а я, конечно, за нею повторяла "Очи черные", "Бирюзовые колечки" или городские романсы. Бывало, соберутся гости, и тут же: "Галя, спой!" В таких случаях я почему-то залезала под стол. Публики я совершенно не боялась - наоборот, очень рано почувствовала в ней потребность: петь для себя самой было неинтересно, нужны были сопереживатели, сочувствующие. Но, вероятно, мне хотелось особой, таинственной атмосферы, хотелось уйти от реальности и создать свой мир. И вот из-под стола несется: "Очи чер-ные, очи страст-ные, очи жгучие и прекра-а-а-а-с-ные..." Мне только три года, а голос мой как у взрослой. Я родилась с поставленным от природы голосом, и окружающим странно было слышать такой сильный грудной звук, воспроизводимый горлом совсем маленькой девочки. Услышав аплодисменты, я вылезала из-под стола, раскланивалась и, окрыленная успехом, начинала изображать то, что пою. Вот такая, например, песенка:
Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан,
Девушку с глазами дикой серны
И с улыбкой, как ночной туман.
Я исполняла этот "шедевр", стоя на стуле, - такая мизансцена казалась мне очень эффектной, потому что, когда подходил смертный час несчастной девицы "с глазами дикой серны", можно было кинуться в море с маяка (то есть со стула на пол) и изображать утопленницу. Все были в восторге. Тут же я плясала цыганочку, трясла-поводила плечами и кричала: "Чавелла!"
У матери, от природы музыкальной, был небольшой приятный голос. Отца Бог наградил замечательным драматическим тенором. Когда-то он мечтал стать певцом, но, как многие русские люди, был подвержен "слабости", весьма распространенной,- пьянству.
Напившись, любил петь ариозо Германа из "Пиковой дамы":
Что наша жизнь? - Игра!
Тот единственный год, что я прожила со своими родителями, оставил в моей памяти лишь несколько коротких, но на всю жизнь четко запомнившихся эпизодов.
Вот я сижу у окна нашей "дачи". Это такая же изба, как и все остальные в деревне, только чистая, с ситцевыми занавесками на окнах, да еще с городской мебелью. Осенняя слякоть, идет дождь, но по улице бегут люди, что-то крича и плача. Из распахнутых дверей избы напротив какие-то мужчины выволакивают узлы, кастрюли, одеяла, подушки и кидают в телегу, запряженную тощей лошадью. Рядом стоит хозяйка избы, за ее подол ухватились ревущие дети, с которыми я всегда играю на улице. А у телеги мечется и воет их бабка. Она вцепилась своими корявыми руками в медный самовар, и ни за что не хочет отдавать его двум здоровенным мужикам, и все кричит только одно:
Читать дальше