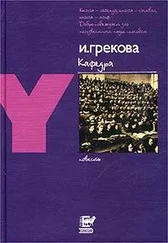Так и жил, не задумываясь, хватая то там, то здесь частицу веселья, блеск пера... Понимал ли, что происходило вокруг, какие вершились перемены, какие сдвиги? Нет, не понимал. И не задумывался. Его просто несло по жизни, а он, зажмурившись, уносился...
А институт? Ну что ж институт. Он туда почти не ходил. Посещение было необязательным, хочешь — слушай лекции, не хочешь — нет. Какие-то сроки были установлены для зачетов. Не сдал вовремя — пеняй на себя. Отчисляли без всяких церемоний, не то что теперь. Некоторые зачеты он с грехом пополам сдавал, выезжая на беглости речи и общем развитии (тогда оно у него еще было, еще не одичал), да по-немецки у него было устойчивое «вуд» (весьма удовлетворительно). Споткнулся на черчении. Прекрасно рисовавший, он черчения не переносил: рабское копирование. А оно преподавалось дотошно, въедливо, было чуть ли не главным предметом. Работали тушью по ватману. Терпение требовалось дьявольское, как у Вари.
И вот что смешно — первым заданием по черчению, которого он, конечно, не сдал, был кран. Конечно, не водопроводный, а подъемный, с огромным крючищем, но именно кран. «Не выйдет из вас инженера», — сказал профессор, отодвигая в сторону его творение. И не вышло. Из-за этого крана (он никак не мог его одолеть) Федора Азанчевского, Фазана по прозвищу, исключили из института на втором году обучения.
Тут уже все пошло вразнос. Не мог сказать маме — не мог! — что его исключили. Не мог сказать и Варе. Ведь она для него всем пожертвовала. Решила, что учиться должен он, мужчина, надежда семьи. А сама пошла работать. Не так-то это было просто тогда — устроиться на работу. Безработица, огромные очереди у биржи труда. Выстояла, устроилась почтальоном. С гордостью носила потертую черную сумку (оттопыренная крышка вроде ее собственной верхней губы...). С гордостью приносила домой заработанные гроши. Нет, не мог сказать им — двум труженицам! — что его исключили. Легче было скрыть. Повернуться по ветру, как флюгер. Ангел-флюгер, черт тебя возьми. Будь ты проклят.
Так и пошла жизнь. Делал вид, что учится, скрывал от всех, что уже нет. Другу Косте — и тому не сказал. Соврал, будто перевелся в Политехнический. Тот поверил, не до того ему было, он и сам-то в «Техноложке» еле держался, запустил учение, но все-таки старался, наверстывал. В конце концов наверстал, выправился. Крепко взялся за ум его легкомысленный друг.
А Фазан жил своей двойной жизнью, двойной ложью. Сначала трудно было, потом привык. Как будто так и надо. Жизнь без обязанностей, призрачно-веселая, уносила волной. Мама с Варей кормили его, одевали, обували, обстирывали. А он почти не бывал дома. Пропадал — летом на Островах, в гребном клубе. Зимой — на лыжах. Вечером у Булановых. Или у Лизы. Жила она отдельно от семьи, в обшарпанной комнатенке под лестницей, со ступенчатым потолком. Серые, честные глаза...
Домой заходил ненадолго. Жадно ел, что ему было оставлено. Притворялся, что очень занят, усердно учится (тогда это называлось «грызть гранит науки»). Делал вид, что грызет...
Каким-то уголком сознания понимал, что долго так не протянется: рано или поздно обман выйдет наружу, придется держать ответ. Но он эти мысли гнал. Уж больно она была хороша — эта молодая, забубенная, лживая пора!
Плавал в успехе. Где бы ни появлялся — сразу становился душой общества. Центром, вокруг которого все вращалось. По природе первый — первый во всем. Барышни, обступив, щебетали: «Фазан, Фазан...»
Играл на рояле все, что попросят. Модные песенки, ими тогда звенела улица: «Кирпичики», «Две увядших розы», «Слышен звон бубенцов издалека»... До сих пор звенят они, бубенцы молодости...
А знаменитые «Бублики» — любимая песня петроградских беспризорников? Они ютились в подвалах, канализационных люках, в бочках из-под асфальта. Оборванные, опасные, отважные. На них устраивались облавы. А они, как согнанные со спины лошади слепни, тут же возникали снова. Вездесущие, вороватые, весело-грязные. Зимой и летом в шапках-ушанках, одно ухо вверх, другое вниз. И всюду с ними — неотразимая, грустно-залихватская мелодия «Бубликов». До сих пор от нее щемит сердце. Играл ее на рояле, взмахивая ресницами. И пел, возможно, слегка перевирая слова:
Купите бублики,
Гоните рублики,
Гоните рублики,
Да поскорей...
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей!
Пел, да с каким надрывом! Пел, доподлинно чувствуя себя этой отверженной, всеми нелюбимой, лгущей обманщицей — частной торговкой. А барышни обмирали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу