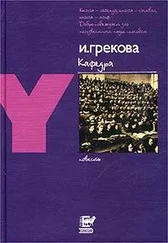Родился сын Петр. Крепкий, красивый, широкоглазый, с материнским овалом лица. Гордился сыном, звал Петром Федоровичем. Тот отца дичился. Дичился, впрочем, и матери. Сам по себе. Клавдия была матерью суровой, без нежности. Она и мужа-то так любила: крепко, но без нежности. А ему как раз хотелось нежности: растаять, расплавиться. Нежна была мама. Нежна была Даша (это уже потом, после войны). Многие из его женщин были нежны, а Клавдия — нет.
И тут в воспоминаниях — порог, особое место. Подходит дело к войне. Кажется, нет никого из живших в то время, кого бы война обошла стороной. Не обошла и его. Великая Отечественная. Началась и все себе подчинила. Целых четыре года. Они и длинные, они и короткие. Особые... Проба человека. Проба характера.
Протекал ли тогда, в годы войны, кран его жизни? Федор Филатович спрашивал об этом себя и не находил ответа. Как будто бы не в чем было ему себя упрекнуть. Воевал, как все, исполнял свой долг, как другие. Было ему к началу войны тридцать пять лет. Был призван, пошел. Все четыре года в армии. Сначала недолго радистом, потом — переводчиком. Допрашивал пленных немцев. Тут ему не было равных. Мало того что знал язык, как родной. Умел войти в доверие, прикинуться «своим». Раскалывал самых упорных. Потом последний взгляд уводимого, похожего чертами лица на Пауля с Бубой — товарищей ранних, прибалтийских лет...
Почему при этом воспоминании вздрагивает сердце? Ведь это же была его обязанность — войти в доверие? Или не так?
На передовой, под самым огнем, пробыл совсем недолго. Запомнились сырые, инеем опушенные стены блиндажа, красные ракеты в темном небе, холодок в груди при шелесте летящего снаряда, звук передатчика, беспрестанно шлющего в эфир свои позывные... Нет, жизнь не утекала тогда, как вода из крана! Жизнь была осмысленной. Отчего же совесть начинает тревожно возиться при мысли о годах войны? Виноват ли он, что война его пощадила?
Ранен был всего два раза, и оба раза легко. Отлеживался в госпиталях... Мимолетные романы с медсестрами, санитарками. Пряменькие плечи с погонами, перетянутая ремнем талия... Врачей очаровывать остерегался. Впрочем, одна — черная, узкобровая, стетоскоп в кармане, — крепко была неравнодушна. После первого же раза заговорила о будущем. Он ускользнул...
Какой-то намек на «кран» был все-таки в этих мимолетных связях. Не забыть, как плакала, расставаясь с ним, голубоглазая санитарка Машенька в мятом перманенте. Обещал ей, что будет писать, да так ни разу и не написал...
Но ведь не он же один! Многие тогда заводили короткие эти романы. «Живем один раз, а меня, может быть, завтра убьют»... Многие из них и в самом деле полегли... Виноват ли я в том, что меня не убили? Не виноват. А в том, что не написал Машеньке? В этом виноват. Но ведь многие не писали своим Машенькам, и это не мешало им быть героями. Или мешало?
Он-то, во всяком случае, героем не был. Плыл по течению. Куда только его, военного переводчика, не носила судьба! Когда встречал где-нибудь рояль или пианино — играл. Но уже не пел: голос не тот, сказывалась привычка к спиртному. Беглость пальцев — прежняя. Внимательные, восхищенные женские глаза... Играл военные песни: «Катюшу», «Землянку»... Запомнился, уже в конце войны, на территории врага, великолепный белый с золотом рояль в каком-то брошенном хозяевами поместье. На этом рояле он играл ту прекрасную, незабвенную песню: «Священная война». Играл вдохновенно, как никогда еще не играл. Слушая его, товарищи один за другим вставали и снимали фуражки, а у женщин были слезы на глазах. Вот песня! Сочинить раз в жизни такую песню — тогда можно было бы и умереть: не зря жил. Но как раз сочинять он с некоторых пор совсем перестал. Жужжали мелодии в уме, но все чужие.
Война... В общем, он сравнительно легко ее отбыл. Легко, но достойно. Не трусил, не прятался, не ловчил. Чего же ты хочешь от меня, совесть? Кажется, наконец понял, в чем дело. Ленинград. Мама.
В Ленинграде оставались мама и Клавдия с сыном Петром (Варя эвакуировалась со своим институтом, хотела взять с собой маму, но та не поехала).
А он одно время воевал неподалеку, чуть ли не в черте города. На этом участке фронта было сравнительно тихо. Конечно, были бомбежки, обстрелы, но куда страшнее было в Ленинграде, блокадном. Он это знал: иногда ему удавалось попасть к своим...
В памяти — комната, густо заросшая инеем; черный потолок с висящими слоями штукатурки. «Что это у вас с потолком?» Равнодушный ответ: «Бомба попала». Черным обведенные, измученные лица. Не лица — одни контуры. Что-то новое в глазах мамы: страх. Смотрела на Клавдию искоса, исподлобья, как собака на строгого хозяина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу