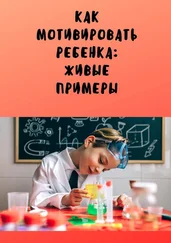— Ну, если вам разрешили, — говорит он, — если это поможет вам, пойдемте, я не против.
Улли тоже не против, хотя его мрачное молчание можно расценить иначе; согнувшись под бременем своей юности, угрюмый, понурый, он едва волочит ноги рядом с Валентином Пундтом сквозь дождь и снег, и кажется, что прислушивается только к позвякиванью металлической цепочки, которую носит под афганской дубленкой. Старый педагог шагает между ними с обнаженной головой, недолговечный снег тает на его волосах, лицо его поблескивает от влаги. Мысленно он уже начинает оценивать происходящее.
Они минуют Морвайде, сбегающую к реке лужайку с пожухлой травой и кирпичной башней, остатком старинных городских укреплений, за ней виден вокзал Дамтор, широкие, двустворчатые двери которого всасывают вечернее шествие молодежи; гроздьями, цепочками устремляется молодежь к вокзалу, нагруженная сумками, плюшевыми медвежатами и другим игрушечным зверьем, пледами, рюкзаками, надувными матрацами.
— Они что, на вокзале жить собираются?
— Нам тоже через него пройти придется, — отвечает Том, небрежно, с ледяной холодностью приветствуя группу ребят, несущих на плечах железную кровать, разукрашенную зелеными и розовыми гирляндами, на кровати, свесив длинную обтянутую сапогом ногу и покачивая ею, лежит девица.
Пундт замечает, что прохожие останавливаются, как и сам он остановился бы, чтобы поглазеть на сие безалаберное, но целеустремленное шествие, на своих развеселых несовершеннолетних современников, поглазеть, как уверенно шагают они, кто в дубленках, кто в пелеринах ангорской шерсти, как стряхивают снег с высоких папуасских причесок или с длинных шиллеровских локонов, разглядеть их, с ног до головы увешанных цепочками, амулетами и тяжеленными кольцами, будто они собрались защищаться от злобных чар. Пестрое шествие несет Пундта через здание вокзала, в этом потоке он ощущает себя инородным телом, всплывшим на поверхность обломком, увлекаемым течением, а несет его к территории выставки, к огромному залу, в огороженные кущи из «света, движения, музыки».
— Я представлял вас себе совсем другим, — внезапно произносит Том.
— Другим?
— Харальд называл вас иной раз «дорожный указатель», знак, показывающий одно-единственное направление и знающий одно-единственное направление, вам известны такие? Думается, сейчас мы движемся не в вашем направлении, но вы все-таки идете с нами…
— Харальд? — переспрашивает Пундт.
Том продолжает:
— Если я не ошибаюсь, Харальд должен был каждый день записывать на календаре, когда он вышел из школы и когда пришел домой. А вы проверяли его записи.
— Ничего себе шуточки, — мрачно буркает Улли.
— Что-то вы имеете против кружных путей, — продолжает Том, — и он не смел ходить кружными путями. О каждой бесцельно потраченной минуте он обязан был дать отчет, если я его правильно понял. Поэтому просто здорово, что вы хотите глянуть на Майка.
В толпе то возникает затор, то сталкиваются течения. Посетители выставки скандинавских продуктов со всех сторон теснят молодежное шествие, пробивают в нем бреши, перемешивают; накупив проспектов, нагрузившись образцами, они просачиваются с выставки, где не упустили случая попробовать север на зуб, домовитый, лакомый север, который не делает тайны из своего пристрастия к майонезу и все экспонаты искусно заляпывает этой приправой. Разноголосица, подхлестывающие воспоминания, вопросы:
— Как называется эта клейкая масса?
— Ködboller — это же фрикадельки?
— Оленья ветчина — вкуснотища!..
— …О пиве плохо не скажешь…
— А такие аппетитные бутерброды надо непременно…
— …О паштетах можно лишь…
Они объясняют друг другу виденное. Смакуют отведанное. Делают выводы.
Шествие молодежи вновь движется без помех по направлению к концертному залу, бесчинств никаких, хотя кипение энергии угадывается, присутствие полицейских здесь вовсе неоправданно, просто из-за явного миролюбия колонны, — оно выражено предметами, которые несут молодые люди: в открытых сумках Пундт видит коробки настольных игр, он обнаруживает кипу книжонок о Микки-Маусе, даже вязанье. Пундт пытается оценить все происходящее. В какой такой поход он впутался? Они что — выражают свое несогласие или намереваются от всего отречься? А может, собрались основать здесь царство несовершеннолетних? Царство воздушных замков и грез, незнающее скорби, не признающее взрослых? Не преградят ли они ему доступ туда, ему, такому глубокому старцу, уже седовласому, их заклятому врагу? У входа возникает толчея, но вовсе не потому, что шествие нарушило дисциплину, а потому, что владельцы кроватей, матрацев, стеганых одеял недостаточно быстро вытаскивают из сумок входные билеты. Взметнув свою ношу вверх, они теперь несут ее на головах, на плечах…
Читать дальше
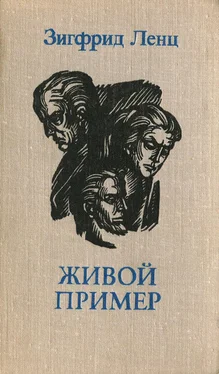





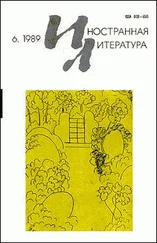
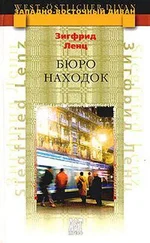
![Сигизмунд Либрович - Живые примеры [Совр. орф.]](/books/389709/sigizmund-librovich-zhivye-primery-sovr-orf-thumb.webp)