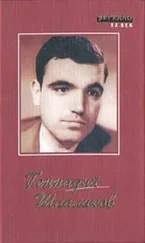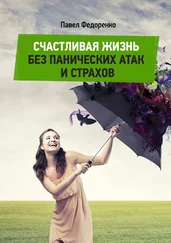— Майло, если ты хочешь, чтоб я… — начала она.
— Я не понесу эти тряпки домой, — перебил ее Майло.
— Майло, — сказала Розакок, — они твои, и делай с ними что хочешь, а я тащилась сюда не для того, чтобы нести их обратно.
Майло поднял глаза. Он уже доел яичницу.
— Ну, а зачем ты притащилась?
— Просто сказать тебе: если ты хочешь, чтоб я… — Она опять умолкла и нахмурилась, глядя на открывшуюся дверь, в которой стояла Мэри, держа на руках Следжа, живой портрет Милдред, и сна у него ни в одном глазу.
Мэри не заметила, что Розакок нахмурилась.
— Вы разговаривайте, я не помешаю, — сказала она. — Просто там холодно, так я его покормлю в тепле, если мистер Майло не возражает.
Розакок посмотрела на Майло, думая, что этого он уже не выдержит. Но Майло сказал:
— Давай корми, — и следил за Мэри, которая подошла к плите и стала греть молоко.
«Он держится молодцом», — подумала Розакок и, протянув руки, сказала:
— Мэри, дай я его покормлю. Он меня уже знает.
— Ладно, — сказала Мэри и хотела было передать ей ребенка, но Майло вдруг отодвинул свой стул, встал и положил на стол мелочь примерно на доллар.
— Мне пора, — сказал он. — Розакок, ты идешь со мной или нет?
Розакок опустила руки.
— Иду, — сказала она, не сводя глаз с Мэри и Следжа и понимая, почему Майло должен уйти. И она тоже встала.
В дверях Майло обернулся.
— Очень тебе обязан, Мэри. Это деньги за ужин.
— Те одежки стоят куда больше, чем яйца, — сказала Мэри, — но мы вам очень благодарны, сэр. — И Майло вышел.
— Извини, я бегу, Мэри, — сказала Розакок.
И Мэри ответила:
— Идите туда, где вы нужны.
Розакок устремилась вслед за Майло.
Он шел медленно, и она догнала его как раз в соснах и посветила фонариком, чтоб ему было виднее, но он ускорил шаг и до поля со стеблями хлопка шел на расстоянии шести футов от нее. Отсюда был виден дом и свет в комнате Сисси. Остановившись, Майло обернулся к Розакок. Она потушила фонарик, зная, что ему легче разговаривать в темноте, и он спросил:
— Ты что хотела мне сказать?
— Что я, если хочешь, отпрошусь с работы и побуду с тобой.
— Было бы очень здорово, — сказал он и зашагал к дому, где светилось окно Сисси, но не успела Розакок последовать за ним, как он остановился.
— Сисси не спит, — проговорил он.
— Да. — Розакок задержала дыхание, понимая, что ее долг — сказать ему какие-то слова, успокоить и повести в дом, но в кое-как пробившемся лунном свете он опять стал похож на того, первого Майло, и она чего-то ждала.
Он тоже ждал, но, помолчав, вдруг сказал:
— Иди в дом и скажи Сисси и Маме, что, мол, Майло стоит там, но не придет, если они не дадут слова, что не будут говорить о ребенке и об этих одежках.
Она ответила: «Хорошо», и это было все, что она могла сказать, все, чего ждал от нее Майло, и пошла к Маме и Сисси. Мама сказала:
— Треть этого дома принадлежит Майло. Передай ему, пусть просто придет и отдохнет здесь.
А Сисси сказала:
— Да, но ребенок был наполовину моим.
Розакок вышла и посигналила с веранды фонариком. Майло двинулся к дому, и, когда он подошел к ступенькам, она сказала:
— Они говорят, чтобы ты пришел, но, Майло, ведь ребенок был наполовину ее.
— Значит, наполовину и мой, — сказал Майло, стоя в темноте возле ступенек. Потом вдруг спросил: — Это Сисси велела сказать?
— Да.
— Но ты могла бы мне и не передавать, верно?
Она не знала, что ответить, и Майло поднялся по ступенькам и прошел мимо нее в дом. Она вошла чуточку позже и услышала его шаги в Маминой комнате. Он собирался лечь спать там, не сказав «спокойной ночи» Маме и Сисси, которые были наверху.
Розакок подошла к двери — дверь он запер — и сказала:
— Завтра утром увидимся, слышишь?
— Ладно, — не сразу отозвался он.
Розакок поднялась наверх, остановилась у комнаты Сисси и через дверь сказала, что все в порядке, он дома и будет спать внизу, а она завтра не пойдет на работу. Затем она вошла в свою темную комнатку, надеясь заснуть. Но она долго лежала в холоде не закрывая глаз, не думая о том, что в соседней комнате не спит и Сисси, и видя перед собой только лицо Майло у Мэри на кухне и слыша, как он рыдал в прихожей в субботу ночью. Снова и снова она слышала его голос, голос Майло, который только ее одну просил разделить его горе, и она мысленно представила себе этого ребенка (которого она не видела живым и не называла по имени), пока ей не стало казаться, что он был ее собственным. И тогда горе жгучей тяжестью обрушилось на нее в темноте. Она приняла это горе, и долго плакала, и наконец ее сморил сон.
Читать дальше