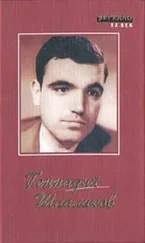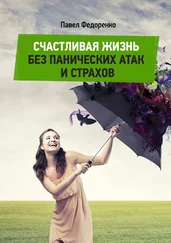— А мистера Айзека нет. Должно быть, он совсем плох.
И не зная, кто там сидит сзади, и не видя никакой возможности узнать, Розакок подумала: «Как я выдержу этот час одна, когда и смотреть-то не на что, только три белые стены, да черная кафедра, да священник и десять женщин — церковный хор, и затылок Уилли Дьюк Эйкок, ни цветка, ни картины, и не о чем думать, кроме Уэсли Биверса — где он сейчас, в десяти шагах или в целых трех милях отсюда, и почему не сидит рядом со мной?»
Встал священник и объявил номер гимна, зашелестели странички, и тут открылась боковая дверь возле клироса и вошел мистер-айзеков Сэмми с черным кожаным креслицем в руках. Он кивнул всем сразу, и все с облегчением закивали, и он поставил кресло там, где всегда, перед кафедрой, боком и к священнику, и к прихожанам. Затем он вышел, и все сидели, не шелохнувшись, пока он не явился снова, неся на руках, как ребенка, самого мистера Айзека в светло-коричневом костюме и белой рубашке, заколотой на шее чем-то золотым; левой, живой рукой он держался за плечо Сэмми (правая рука болталась, как тряпичная, и нога тоже), и одна сторона лица у него была живая, а другая — как мертвая, и эта сторона, на которой после двух тяжелых ударов навсегда осталась улыбка, была повернута к молящимся, когда Сэмми осторожно усадил его в креслице и, став на колени, поправил его тоненькие птичьи ноги. Потом Сэмми поднялся, прошептал что-то ему на ухо и сел на скамью возле кресла. И тогда все запели, и Сестренка негромко, но уверенно вела за собой все голоса до протяжного «аминь».
Значит, этот долгий час ей придется смотреть на мистера Айзека, вернее, на его неподвижную половину, и стараться не думать, кто там сидит или не сидит позади, и она стала торопливо вспоминать, как он пугал их еще детишками, и не нарочно, не со зла, он просто каждый раз увидев их на дороге, останавливал грузовик и подзывал: «Иди сюда, девочка» (или «мальчик» — по имени он никогда их не звал). Они плелись к нему и, стоя чуть поодаль от грузовика, чертили большими пальцами ног круги по пыли, а он спрашивал: «Ты чья, девочка?» (то есть кто ее мать), и они отвечали: «Эммы Мастиан». И он спрашивал: «Ты точно знаешь?» — и, когда они кивали, протягивал им из окошка мятные леденцы с налипшими голубыми ниточками от нагрудного кармана рубашки и ехал дальше, даже ни разу не улыбнувшись. А теперь у него эта смирная, точно пришитая улыбка, хотя, сколько она его помнила, не было такого случая, чтоб он улыбнулся, и в тот день, когда он остановился на дороге и без всякой улыбки спросил у Майло: «Сколько тебе лет, мальчик?», Майло ответил: «Тринадцать», и он сказал: «Ты потри скипидаром между ногами, тогда волосы скорее вырастут» (Майло попробовал и чуть не умер, так его жгло)и даже еще раньше, когда они набрели на тот источник, когда она, Майло, Милдред и остальные вдруг увидели его в лесу, ноги по щиколотку в воде, а лицо и взгляд такие пустые, что ребята повернулись и дали стрекача, не дожидаясь леденцов; и в тот вечер, когда погиб ее отец и мистер Айзек пришел и на пороге веранды дал Маме пятьдесят долларов, сказав: «Там ему лучше» (и это он верно сказал); и в тот день, когда он навестил в больнице Папу, и Папа, разболтавшись, спросил: «Как же это вы так и остались неженатым?» — мистер Айзек ответил: «Никто меня замуж не берет» — и усмехнулся, но тут же его лицо приняло то всегдашнее выражение, что, словно щитом, прикрывало его душу, и не известно было, о чем он думает — о своей старости (ему сейчас восемьдесят два), или о своем здоровье, или о деньгах, которые приносили его земли и леса и которых он не тратил, а раз он не женат, все это останется его сестре Марине, она ему стряпает, но сама уже такая развалина, что не может окружить его любовью и заботой? И единственно, кто его любил, — это Сэмми, его работник, когда-то тощий чернокожий паренек, возивший хозяина в грузовичке по его владениям, а теперь детина, носящий его на руках.
Мысли ее прервались — все запели второй гимн (причем дружок Уилли Дьюк старался больше, чем надо). Потом началась молитва, и она наклонила голову, но как только священник взялся за свое дело и возблагодарил господа за всякую зелень, кроме плевелов, сзади раздался громкий рев Фредерика, сидевшего на руках у Маризы Гаптон. Розакок и Мама быстро взглянули на Майло, чтобы он опять не посоветовал заткнуть малому рот титькой, но Мариза уняла Фредерика, и Майло только ухмыльнулся, и все снова склонили головы. Священник говорил о врачевателях, о сестрах милосердных и об одре страданий, а Розакок глядела на мистера Айзека. А что делать? Он хоть не знал Уэсли, разве только слышал его имя. Он держал голову прямо, и его правый мертвый глаз был устремлен на стену напротив, но Сэмми сидел, склонив голову, как все. Молитва шла к концу, когда живая рука мистера Айзека шевельнулась на ручке кресла и тронула колено Сэмми. Сэмми не поднял глаз (хотя живая часть лица была с его стороны), и рука тронула его еще раз. Сэмми понял и, не поднимая головы, полез в карман и вытащил два мятных леденца, чтобы хозяин был ублаготворен до конца службы. Один леденец мистер Айзек сунул в рот, другой зажал в руке, и Розакок поглядела по сторонам (только не назад), видел ли это кто-нибудь, кроме нее. Все сидели, склонив голову, в том числе и Сестренка, которая по молодости лет относилась к молитвам очень серьезно, и Розакок сказала про себя: «Только я одна это видела, так что, может, день не пропал зря».
Читать дальше