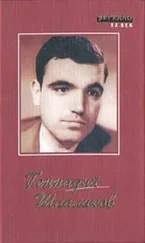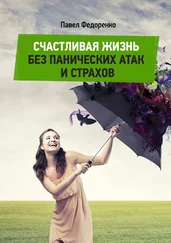Майло воззрился на ее лицо, соображая, как с ней следует говорить.
— Мама ушла с Сестренкой. Она сказала, чтоб ты спала сколько хочешь.
Розакок бросила взгляд в зеркальце для бритья, висевшее над плитой.
— Может, я с виду дохлая, но на самом деле ничего подобного.
— Сисси тоже неважно себя чувствует. Она лежит наверху, так что можешь остаться с ней.
— Майло, я поеду. Ничего с твоей Сисси не случится, а если она начнет рожать детей, мы и в церкви услышим, как она заорет. Остуди мне кофе, а я мигом оденусь.
Несмотря на спешку, она старалась одеться как можно лучше, и наконец перевела дух, и машина помчалась (но не настолько быстро, чтоб снять тяжесть с ее сердца).
Они пролетели мимо видневшегося сквозь поредевшую пекановую рощу дома мистера Айзека, Розакок подняла глаза и, чтобы нарушить молчание, чтобы отвлечься, сказала первое, что пришло в голову:
— Вот грузовик мистера Айзека, значит, он еще дома. Должно быть, ему так плохо, что он не поедет в церковь.
— Коли жив, так поедет, — сказал Майло. Они миновали озеро, круто срезали последний поворот, и перед ними предстала церковь «Услада», облитая утренним солнцем, вокруг нее крутились игравшие во что-то мальчишки, а в стороне, ближе к кладбищу, кучками стояли мужчины в клубах табачного дыма — они спешили накуриться в те последние минуты, что им осталось быть на воздухе. Еще на повороте Розакок, зная, что ее не видно, впилась глазами в группу мужчин, но издали не смогла разглядеть лиц, а когда машина въехала в церковный двор и все мужчины, обернувшись, уставились на них и какой-то мальчишка заорал «Рози-Кок!» (так ее звали все мальчишки), то она уже не решилась поднять глаз. Она смотрела на кладбище, где все глубже в землю уходил ее отец. Но этого она не видела. Она видела только, как Майло отыскивает глазами кого-то в толпе. Она трепетала при мысли, что он ей вот-вот что-то скажет, и проговорила тем голосом, которого пугалась сама:
— Не говори, если кого увидишь.
Она вышла из машины одна и пошла прямо к церкви мимо всех мужчин, ничего не видя, кроме белого песка под ногами. И никто ее не окликнул. Тем же быстрым шагом она вошла в церковь и села слева от Мамы на четвертую скамью от кафедры.
— Ты поела? — спросила Мама.
— Поела, — ответила Розакок и повернулась к кафедре с твердым намерением смотреть целый час только вперед, но Сестренка сидела, повернувшись к двери, и Мама то и дело оглядывалась и называла каждого входящего. Розакок только кивала в ответ и все время смотрела прямо перед собой, и наконец Мама не выдержала, и толкнула ее в бок, и сказала: «Матушки мои!», и ей пришлось обернуться, потому что в церковь вплыла Уилли Дьюк Эйкок, сияя так, словно еще недолго ей осталось носить фамилию Эйкок, а вместе с ней ее новый поклонник, которого она выпихнула вперед для всеобщего обозрения (и все старались его рассмотреть, кроме Розакок, которая решила заранее прочесть гимны в молитвеннике, но никто ничего особенного не увидел, кроме того, что у него маленькая голова и яркая гавайская рубашка с широким распахнутым воротником, лежавшим на его круглых плечах. Мама сказала: «Должно быть, он не рассчитывал попасть в церковь, когда укладывал вещи».
Но что самое удивительное — за ними важно выступало все семейство Эйкок.
— С тех пор как открыли кино-заезжаловку, они в церковь и носу не казали, — заметила Мама.
(Кино-заезжаловка открылось прямо против их дома, на другом конце поля, и все лето по субботам, как только заходило солнце, они усаживались на свежем воздухе и смотрели всю программу до последних кадров кинохроники, после чего у них не было сил утром идти в церковь — поэтому они и совестились ездить на церковные пикники. Само собой, они смотрели кино, не слыша ни звука, но Ида, их младшая, очень быстро научилась читать по губам и передавала им каждое слово.) Наконец, когда семейство уселось, облепив со всех сторон нового дружка, было уже без малого одиннадцать и за окнами слышались разные звуки: мужчины втаптывали окурки в песок, шаркали подошвами о цементные ступеньки, прокашливались, надеясь, что в последний раз, и незаметно пробирались к своим. Мама не оборачивалась, когда они входили (и вносили с собой струи свежего воздуха, щекотавшего шею Розакок), но Сестренка видела всех и не назвала ни одного имени, даже Майло, который сел на скамью рядом с Мамой. Розакок чувствовала, что он повернулся в ее сторону, но не взглянула на него, думая: «Что бы он там ни узнал, не желаю слушать». Тут вышел священник, и женщины, поющие в хоре, уселись на свои места. Все примолкли, кроме Мамы (которая сказала вслух то, что думали остальные):
Читать дальше