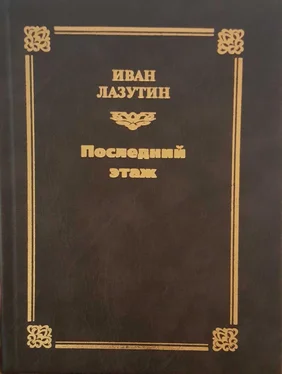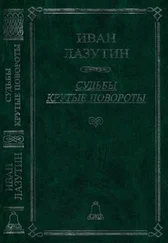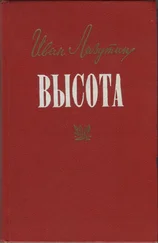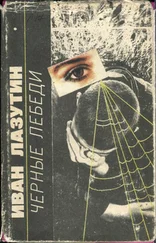Бояринов стоял за спиной Лисогоровой и наблюдал, как с каждым прикосновением ее пальцев к лицу весь облик актрисы менялся, старел, дряхлел и вся она прямо на глазах усыхала и начинала походить на нищенку.
Поражаюсь, что делает с лицом человека грим! — сказал Бояринов, глядя на отражение лица Лисогоровой в зеркале. — Так владеть гримом — это тоже искусство!..
— Леонид Максимович, спешите, до выхода осталось двадцать минут, а вы еще не наклеили усы и не надели свой мундир.
— Я это делаю, Татьяна Сергеевна, за семь-восемь минут до выхода, — Бояринов посмотрел на часы. — Пойду. Знайте: в последней картине буду снова смотреть на вас из-за кулис.
— Спасибо, дорогой… Это придает мне силы. Вы мой верный друг.
— И навсегда ваш поклонник.
Бояринов вышел из гримуборной Лисогоровой и в коридоре чуть не столкнулся с Прянишниковым, который в форме штабс-капитана, на ходу раскуривая трубку, куда-то торопился. Холодно поздоровавшись, они обменялись взглядами, один из которых насмешливо говорил: «цип-цип-цип…», другой как бы посылал в ответ: «ципай-ципай, мил человек… До звания тебе еще долго придется ципать и брызгать духами на руки, которые пахнут трупом…»
Пройдя в свою гримуборную, Бояринов быстро переоделся в мундир, сделал наклейку усов, взбил послушный кок светлого парика и надел офицерскую фуражку. Когда в фойе прозвенел первый звонок, он уже был готов к выходу. Тут же вспомнил: в третьем ряду сидит Светлана Петровна, дочь некогда знаменитой актрисы Жемчужиной. Решил взглянуть через щель в занавесе — заняла ли она свое место. До начала спектакля было еще пять минут. Как всегда, за эти последние пять минут до подъема занавеса, Бояринов начинал испытывать волнение. Знал он также и то, что это обостренное чувство тревоги — как примет зритель сегодняшнюю игру — жило в душах великих мастеров сцены всю жизнь, до самого последнего выхода на подмостки. И это Бояринова успокаивало, вливало в него силы и веру, что он победит зрительный зал.
Светлану Петровну он отыскал взглядом сразу же. Она сидела в третьем ряду, почти у среднего прохода. На ней было строгое темно-зеленое платье с глухим воротником, отороченным ниткой жемчуга. Высокая прическа облагораживала ее бледное печальное лицо. Было видно, что в театр она пришла одна: рядом с ней места по обе стороны были свободны.
Зрительный зал постепенно заполнялся, монотонным гулом своим напоминая разбуженный улей. К этому гулу Бояринов привык, он любил его. Было в этом гуле что-то схожее с органной музыкой, равномерно звучавшей под высокими церковными сводами.
И вдруг… Бояринов даже вздрогнул и отшатнулся от занавеса, словно боясь, что его могут уличить за этим непристойным делом — подсматриванием из-за кулис в зал. По среднему проходу, меж бархатных кресел, гордо неся голову, шла Магда. Она была одна. Длинное коричневое платье, четко очерчивало ее статную фигуру, поблескивало серебряным шитьем. На плечах Магды был накинут белый меховой палантин, который резко оттенял ее смуглое загорелое лицо. Бояринов почувствовал, как в груди его прибойно забилось сердце, посылая к горлу упругие толчки крови.
Магда села в пятом ряду. Даже издали, из глубины затемненной сцены было видно, как в ушах ее при малейшем повороте головы сверкали бриллиантовые серьги.
…Весь спектакль, от первой и до последней картины, Бояринов ни на минуту не забывал, что в зале, в пятом ряду, сидит Магда. Несколько раз, прохаживаясь по сцене и произнося слова роли, он набегал на нее взглядом и остро чувствовал, что она не только догадывается, но уже твердо знает: он увидел ее, он волнуется оттого, что она в зрительном зале, и это чувство не могло не сказаться на его игре. А когда наступил момент высказывать прощальное признание в любви своей невесте Ирине перед тем, как пойти на дуэль стреляться с опасным бретером Солёным, он, вопреки режиссуре, не смотрел на Ирину, роль которой играла уже немолодая Кильчевская. Взгляд Тузенбаха был обращен в зрительный зал, на пятый ряд, где сидела Магда. Освещенный ярким лучом прожектора, Бояринов не видел выражения ее лица, он только различал очертания ее головки и плеч, обрамленных белым палантином. Прощальные слова свои в последний час жизни Тузенбах обращал не к Ирине, а в зрительный зал, на пятый ряд. Сделав паузу, он отошел от Ирины тихо, очень тихо, так, что зрительный зал замер в напряжении, сердцем предчувствуя самое страшное в своей судьбе, произнес слова роли, как последнюю исповедь:
Читать дальше