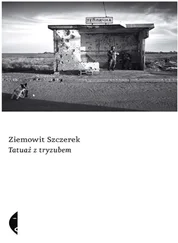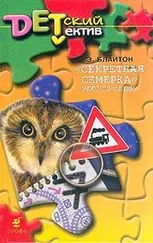Съёбываюсь отсюда, думал ты. Не по Двойке на запад, потому что по Двойке на запад как раз все сейчас съёбываются. Сверну, размышлял ты, в первое же влево ответвление и поеду какими-нибудь деревенскими дорогами. В Чехию, в Германию. Съебусь отсюда и начну все заново. Не как поляк. Как я. Как Павел. Пауль. Паоло, блин. Курва — как я. Придумаю себе имя, которого нет. Которое взялось ниоткуда. Но меня здесь не будет. Когда рака бьют, пескарей не трогают. Чижику по барабану, когда с барана шкуру снимают. А лично мне все это похуй. И хорошо, крутил ты в голове, буду ГДЕ-ТО, ведь целый мир, курва, поделен на участки, но я буду — ниоткуда. Если кто спросит меня, откуда я — размышлял ты — скажу, что не играю, а только ебу. Что мне все это до задницы. Что я в эту игру не играю. Что сами можете в нее играться. Что лично я не желаю во всем этом дерьме копаться. Скажу, ну а почему бы и нет, скажу, где родился и даже то, кто мне какое имя дал, но при том же скажу, что это ничего не значит. Что мне до лампочки. Не буду поляком, подумал ты — и все.
Но и это все тоже было пустотой.
Самого себя не мог уболтать, что ты не поляк, а другим, полячок, желал лапшу на уши вешать, говорить, что нет?
И вот на кой ляд все это было нужно? — размышлял ты. Не нужно было молить о всеобщей войне за свободу народов [263]. Нужно было это дело слить. Существовало бы, самое большее, три Польши [264], а все поляки ходили бы окутанные теплом страдания народа, не имеющего собственной страны. Композиторы бы компонировали, писатели — писали. Террористы гибли бы за нее, за Польшу, прекрасную Полонию в белых одеждах, романтично взрывая себя в поездах Deutsche Bahn'а, в российских маршрутках, в австрийских кондитерских, а мир постепенно был бы ими и всеми остальными сыт по горло. Но композиторы бы компонировали, писатели бы писали. Открещивались бы от терроризма, говорили бы «not in my name», «we don't support killing people» [265]— и писали бы, и компонировали. Какой бы прекрасной была бы Польша, если бы существовала — так бы они писали. Польские историки доказывали бы, что это должен был бы быть самый расчудесный край под солнцем, ибо так, а не иначе, он попросту обязан быть — в срединке Европы, между Востоком и Западом, на пересечении всех линий. Каждого, кто бы с ними не соглашался, называли бы полоноедом и полонофобом. А другие создавали бы альтернативные истории и изображали бы Польшу раем на земле. Германский порядок, славянская душа. Германский крафт [266], славянсая спонтанность. Так было бы здорово. И на кой ляд это вот рожать в таких муках и столько раз, лишь затем, чтобы этот труп, обреченный на смерть истории, на каждом шагу реанимировать? Этот вот ядовитый и безнадежный проект, который никогда не может удаться, но который, курва, всякий раз ангажирует в себе на жизнь и на смерть миллионы добровольцев, которые выпускают ради него все свои бебехи до остатка, и только хрен чего с этого имеют? Ну вот что они впишут в собственный c.v. [267]? Родился поляком/полькой и посвятил/посвятила жизнь Польше, работая в качестве волонтера, на добровольной основе? В любой нормальной стране на них посмотрят как на фрайеров. В любой нормальной стране, начнем с того, не используют оборота «в любой нормальной стране». Польша — это страна, являющаяся всем. Потому что является всем сразу, ибо за тысячу лет не заработала себе даже приличной формы, ведь форму — это так, на всякий случай — лучше всего не принимать, а то вдруг еще та окажется хуевой, и что тогда скажут люди в любой нормальной стране, так что лучше смотреть, как форма принимается сама, и делать вид, что это вот наша форма и есть. Польша — это страна, которая саму себя не примет, но не потому, что у нее такие высокие требования, но лишь потому, что она не является тем, кем хотела бы быть, то есть, любой нормальной страной. Любой другой. Страна, обитатели которой над ней либо издеваются и ее ненавидят, либо же возбуждают в себе болезненную к ней манию и этой страной болеют — а ведь ни в одной нормальной стране такого нет.
— Правильно, Бельфегор, — сказал ты, глядя на меня, сидящего на заднем сидении черного опеля инсигнии. — ай все это идет к чертовой матери. До самого конца. От Хеля [268]до Силезии. От Татр до Балтики [269].
— Угу, — сказал и я. — Пускай идет к черту.
— Но в этом нет смысла, — сказал ты.
— Ну да, — сказал я. — Смысла нету.
— Здесь все это кончается, — сказал ты. — В этой черной дыре бублика, посреди всей этой грубой, простейшей тривиальности, забросанной неудачными подделками под реальность, в которой никто не желает жить, и в которой необходимо насильно заверять будто бы какой-то смысл существует.
Читать дальше