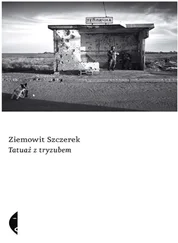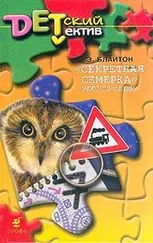Тебя захватила депрессия.
Ты остановился перед городским музеем, в котором хранили особенный предмет мебели: комод с дырой от пули, которую Юзеф Пилсудский собирался всадить себе в голову, вот только не попал. Точно как и тебя, уважаемого Дедушку охватила абсолютная депрессия, и он собирался покончить с собой, но как-то у него не сложилось. Ты сам когда-то специально выбрался в енджеювский музей, чтобы увидеть эту знаменитую дыру, только сотрудники делали все возможное, чтобы тебе объяснить, что та стрелянина себе в голову — это легенда, глупая и невозможная, что дыра имеется, да, и дыра от пули, но всего лишь случайно выпущенной во время чистки оружия, причем, не Пилсудским, а кем-то совершенно другим, то есть, как в том самом анекдоте про золотую медаль [200]. Наверняка сотрудники музея были правы, но ты не верил им ни на копейку, потому что прекрасно знал, до каких низов состояния можно дойти в Енджеюве. И ты представлял его себе, Пилсудского, въезжающего сюда — правда, не на Каштанке [201], а на автомобиле — в этот маленький городишко, который тогда выглядел значительно лучше, чем сейчас, потому что хоть на что-то было похоже, как угодно, во всяком случае — у него имелся рынок, причем — о-го-го — мощеный, не то, что где-нибудь еще, где лошадь по брюхо в грязи вязла, и вообще — в какой-нибудь Элбонии [202]. Так что, Пилсудский въезжал, по поводу чего-то устраивал истерику, бурчал чего-то в усы с тем своим акцентом жалобщика-кресовянина [203], а за ним — его стрельцы с манлихерами, вот, глянь-ка на этот манлихер, ржавый как холера, они шли за автомобилем, дошли сюда с краковских Блонь [204]через брошенную, ничейную страну, которую они не слишком-то и должны были завоевывать — в Михаловицах, на российской границе, никакая собака не желала по ним стрелять, когда вояки сносили пограничные столбы. Теперь мимо них осуществляются марши реконструкторов, через свободную уже Польшу, в Михаловицах они лишь отдают салют сваленным пограничным столбам и записываются в особую книжечку, что хранится в секретном ящичке на задах памятника, после чего идут вдоль оград из листового металла, вдоль бетонных заборов — через свободную, цветущую Польшу.
Короче, въехал тогда Пилсудский в Енджеюв, а люди в Царстве [205]не сильно горели пихаться в эту авантюру с независимостью, в связи с чем Пилсудский был разозлен и разочарован, впрочем, до конца жизни он терпеть не мог Конгресувки, Привислянии. Ну а потом, после смерти, ему устроили номер: упаковали на железнодорожный лафет и гордо, через всю эту ненавидимую им, тривиальную Привислянию провезли, через самый центр дырки от бублика, через польскую пустоту, по Семерке через Радом, Кельце, Енджеюв, Мехув — и в Краков. Он лежал на том лафете и был, похоже, вдвойне мертв. Хорошо еще, что сердце его в том Вильно захоронили, той совершенно иной Польше, той самой, которая сейчас является совершенно иным светом, и даже если и польским, то польским совершенно иной польскостью.
А ты был в депрессии и голодным.
Ты пер через черный, безнадежный енджеювский рынок, размышлял о Пилсудском и проходил магазин с названием «Свежинка», со здания которого штукатурка облазила, оставляя гнойную рану, и из витрины которого грохотала сельским техно многократно повторенная надпись ЦЕНОВЫЙ ШОК, ЦЕНОВЫЙ ШОК, ЦЕНОВЫЙ ШОК, ЦЕНОВЫЙ ШОК; ты проходил мимо здоровенных, несколькометровых фотографий копченостей на прилавке мясного отдела, шел мимо рядов пугающих безголовых манекенов, выставленных, как будто на позор, одетых в дешевые китайские тряпки, скованных один с другим — словно рабы на плантациях — цепями, чтобы никто их не спиздил. Ты видел прижавшуюся к стенке рушащегося дома деревянную будку по продаже овощей с надписью ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ, причем, абсолютно непонятно и не известно было: ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ чего, зато сверху, к крыше овощной лавки была прикреплена крупная надпись ДЕРЕВЕНСКИЕ ЯЙЦА. Чуть далее на красном биллборде какая-то киска дудлила кока-колу с таким рвением, что было похоже на то, что ее гортань вот-вот лопнет и кока-кола Ниагарой выплеснется из разорванной шеи.
И вот тут ты увидал кебаб [206]с названием «Кебаб Пирамид-Синдбад». Из его крупных окон лился оранжевый свет: он отражался от оранжевых кафельных плиток внутри, от оранжевых столиков и стульев, от фотографий пирамид, верблюдов и всего того, что среднестатистический поляк обязан ассоциировать с востоком. Только, Боже упаси, не с Аль-Каидой — именно потому, догадывался ты, в названии заведения перед словом «Кебаб» убрали буквочки «аль», следы которых на вывеске до сих пор оставались. К тому же — чтобы увеличить, показалось тебе, прозападную верность, в баре висели плакаты американских фильмов. Сплошние «роад муви»: «Исчезающая точка» или «Конвой».
Читать дальше