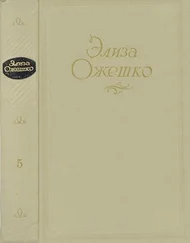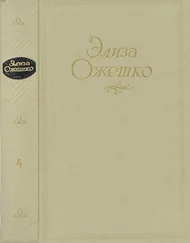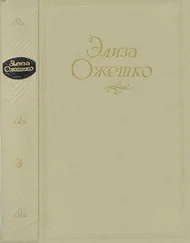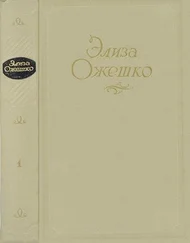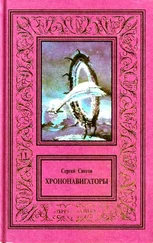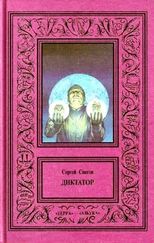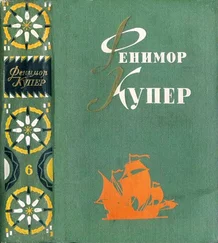— Говорят, что город решено взоррр-в-в-ать. Чтобы оставить немцам только раз-в-в-в-а-а-лины. Людям дадут дополнительный па-а-е-к, и они с-с-с-де-ла-ют это. Ты ни-чего не можешь сказать мне по эт-т-то-му по-о-о-воду?..
Николай замолк, тяжело дышит и пробует найти в полутьме глаза своего друга.
— Извини, я закурю. У меня постоянно горит в горле.
— Как Варвара?
— Опухает Варвара… Собралась немного постирать… Закурил — легче стало… Она, как прежде, подает мне полотенце. Кладет в карман чистый платок, выстиранный неизвестно как. И выпрашивает на улице для меня табак — у солдат. Без нее я не прожил бы и недели… — Николай Баранников закашлялся. Глаза налились слезами. — Я з-з-з-наю, она дож-ж-ж-ивет до весны и будет жить вечно, — дожить до старости в наше время, разве не прожить целую вечность!
— Ник, послушай меня! — Вадим придвинулся к другу. — Ты очень плох. Выпей чай. У меня есть лепешки.
— Позволь, я выкурю еще папироску.
— Да, конечно. Но послушай. Нам нужно найти выход. Мы еще можем вырваться отсюда. Немцы войдут в город, когда он станет пустой. Но у нас есть право на жизнь! И небольшие шансы все-таки есть. Подумаем вместе о спасении. Мы что-нибудь придумаем. Еще не все потеряно. Неужели нам больше не пить цинандали! А, Ник!
— Мне нужно идти, — четко, с внутренним упорством сказал Баранников. Улыбнулся темными зубами: — Раньше бы я вызвал такси. Я передам Варваре от тебя привет. Хорошо, что я застал тебя. Я понял тебя… Но ты еще не все понял. Каждый сейчас поступает единственно для себя возможным образом. Извини, но я не могу терять ни одного дня на твои надежды. Ты такой же невменяемый, как и я. Мы не знаем лучших путей, мы знаем только свой.
— Я тебя немного провожу… Не возражай.
— Мне понравился твой чай. Ты его делаешь из лавровых листьев. Впрочем, я не знаю, есть ли лавровый лист у Варвары.
На улице февральская метель. За белыми хвостами вихрей они почти не видели друг друга. Нужно было бы кричать, если попробовали продолжить разговор. Где-то за белой кисеей рвались снаряды — и снег будто на миг останавливался в воздухе, когда слышался тяжелый, глухой удар. Болезненный, розовый цвет бросал вокруг одинокий горящий дом.
Ник слаб и неуклюж. Лицо побледнело от ветра. На углу улицы Вадим трясет его руку. Николай что-то говорит, но сам понимает: его не слышно. Перчаткой показывает на свое горло. Ведерникову показалось: на глазах Ника слезы. Он приблизился к нему, чтобы убедиться в этом. Да, конечно. Ведь они прощаются. Прощаются навсегда. Вадим вдруг вспомнил, как его друг выкрикнул однажды в споре: «Перестань мучить истину!..»
Пора было уходить. Зойка надела свое пальтишко, оно доходило ей только до колен, повязала вокруг головы платок.
Не платок это был, а часть Танькиного одеяла. И сейчас он пахнул ее проделками. А крикливой Таньки уже нет. Унес ее дворник Егор за триста граммов хлеба. Куда отнес? Должно быть, на кладбище.
Раньше он разносил по квартирам дрова — теперь уносит покойников.
Таньку, уложенную в крышку швейной зингеровской машины, унес под мышкой.
Надевала Зойка пальто, платок закручивала, а глаза все в комнату смотрели, на печку, на диван. Чисто у бабушки и стекла целые. Как прежде всё. И бабушка, комнату загораживающая и свет, прежняя, довоенная совсем. Только губы у нее тонкие стали и глаза как бы в себя ушли.
Запрыгали у Зойки губы, всхлип прошел внутрь и остался там.
— А карточка где? — испугалась вдруг. — Бабушка, где карточка? — и снова расстегнулась.
Знает Зойка, где карточка, а ищет. Даже Танькино одеяло развязала.
— Вот!..
И бабушка посмотрела на хлебную карточку. Зойка клала ее в разные карманы и снова вытаскивала. А бабушка все стояла и смотрела своими новыми глазами.
— Я… пойду, — сказала Зойка.
— Иди, иди, — сказала бабушка.
— Бабушка, а мама очень плохая. Опухлая. У нее понос был. И я не доживу до весны… Солнышко бы дождаться. Я бы к тебе часто ходила… Только далеко теперь… Не дойду, боюсь.
Зойка все заглядывает бабушке в глаза и в комнату смотрит.
— А папка письмо прислал. Зайца мне нарисовал. Думает, что я еще маленькая. Бабушка, он тебе пишет?.. Тогда уж пойду…
— Иди уж…
Вышли они на темную лестницу. Страшно здесь Зойке стало: не узнает лестницу, по которой прежде много бегала. Обрадовалась — навстречу поднимался мальчик. Не узнать, но знакомый, наверно, — Вовка Родионов или Колька тети-Машин. Хотелось Зойке нос задрать, пройти хорошо, сказать при мальчишке бабушке про отца — снайпер он или про себя что-нибудь завидное.
Читать дальше