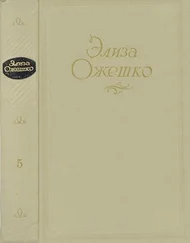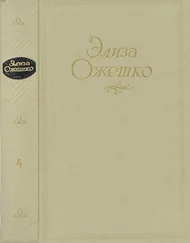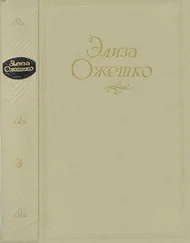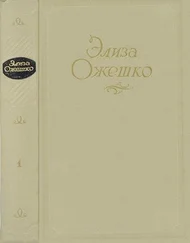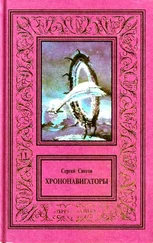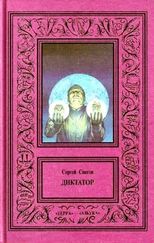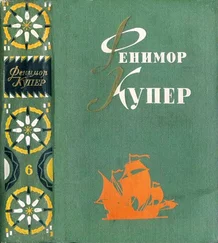Отчим утих. Мать проговорила:
— Нет теперь у нас дяди Коли…
Проскрипела дверь, Прасковья Евгеньевна встала на пороге.
Генка замер. Весь сопротивляясь чему-то, сжался. Но мать дяди Коли не нарушила того, что можно было нарушить. Дошла до сына. Что-то поправила, что-то проговорила ему треснувшим шепотом на ухо.
Генка понял, что и Прасковья Евгеньевна тоже приняла укор.
— Никогда, — сказала у дверей, — не будет у вас, Варвара, такого…
Мать плакала. Генку трясло от холода и слабости.
Дверь снова проскрипела. Шлепанцы прошаркали — и оставили тишину.
Себя видит в зеркале шкафа: вдавленная в подушку голова. Глаза опухли.
Генка похож на старого Бетховена.
Запустил пальцы в композиторские космы и вынул пук белобрысых волос — цинга.
Репродуктор молчит. У холодной печки обломки кресла. На раскладушке отчим. Кажется, он продолжает жить, только иначе — беззвучно и незаметно.
Генка тратит много времени на проверку: поднимается или нет пикейное одеяло над грудью дяди Коли, действительно или так только кажется: над простынью, покрывающее его лицо, струится пар.
В начале недели сандружинницы увели Зойку. Она стала подолгу говорить на непонятном языке. Как уводили — видел.
Дружинницы в темноте искали выход из квартиры. Когда Генка открыл дверь в коридор, им стало светлее. Зойка ничего не сказала. Просто на него смотрела. Но Генка понял — она спрашивала: «Ты видишь, что со мной они делают?»
А это мать. Навстречу беличьей шубке протянул руку. Самому Генке рука кажется длинной и тонкой, как плеть. Ногти почему-то стали синими.
— Почему нет довеска? Ты не потеряла довесок!..
Мать собирает внутри печки костер. Выщипывает страницы из «Капитана Гатерасса». Она могла бы для растопки вырывать страницы из других книг.
Его теперь легко обидеть. Смирил и эту обиду, как многие другие, — закрыв глаза, одевается.
На собственной дощечке у печки режет хлеб. Своей ловкостью он сердит мать.
Сейчас ее сын в области цифр. Цифра сказочная. Крохотную пайку «иждивенца» рассекает на пятнадцать частей. Из ничего творит свое богатство. Липкие листки из хлеба невозможно держать, но, когда на печке подсохнут, с ними уже ничего не случится.
Генка листки переворачивает, щупает, считает. Иногда ошибается. Тогда начинает пересчитывать их снова. Намоченный палец дежурит над раскаленным железом «буржуйки». Он успевает снять крошку прежде, чем она обуглится, и отправляет ее в рот.
Он не любит, когда мать начинает наблюдать за его занятием. Жалеет ее хлеб, который она ест, запивая кипятком. Она не понимает смысла увеличивающихся и уменьшающихся цифр.
Мать снова уходит.
Прежде она отправлялась к госпиталям — за картофельными очистками, к выгоревшим складам — за дурандой. Теперь очисток не бывает, а на складах даже земля, где лежали жмыхи, унесена в кошелках и съедена.
Теперь она уходит просто туда… Мороз, дневная луна, обходит падающих острыми коленками в снег.
Генке теперь не одолеть лестницы. Раньше уходил на улицу и он. Стоял у булочных. Там меняют хлеб на кулечек сахара, хлеб — на табак… Кто-нибудь стоит с салазками дров, за которые ожидает получить хоть что-нибудь.
Мать ушла, потому что ноги ее еще сильны.
Генка перебирает сухарики, как четки. В печке рассыпаются угли. Генка устал — устал сидеть, держать голову, утомлен стуком капель, сбегающих с окна. Он как часовой, которого забыли сменить. На раскладушке, в ногах дяди Коли дремлет.
Его фигурка покачивается. Сейчас его лицо забыло о морщинах старого Бетховена. Его губы и кончики пальцев вздрагивают, как будто во сне пробуют сбежать в прежнюю жизнь — к теплу, к надежде, к защищенности.
Почти всегда Генка видит солнце — это от печки.
Почти всегда ему немного стыдно — потому что часто видит себя нагим.
И всегда улыбается — будто знает то, что известно ему одному. Это потому что он еще жив…
…Идут! Это еще во сне. Но знает: нечеловеческие шаги раздаются с лестницы.
Город шаркал, запинался, брел… Эти ноги давили ступени, пренебрегая их высотой и неровностями. Всё бессильно перед такими шагами.
К двери они приближались с заготовленным знанием. Кто-то в мире знал, где он.
Он укрыл свои сухарики дощечкой прежде, чем отворилась дверь, и стал спокоен, как человек, который сделал все, что мог.
В темноте — печка давно прогорела — мимо него прошуршало что-то большое и тяжелое. Оно оставило после себя клубы мороза и запах табака, остановилось у стола, треща промерзшим паркетом.
Читать дальше