Внутренне он очень обижался на брань, которой осыпал его Гант; он не был совсем слеп к своим недостаткам, но оттого, что его называли «праздношатающимся бродягой», «никчемным дегенератом» и «завсегдатаем бильярдных», его хвастливая и дерзкая манера держаться становилась только еще более вызывающей. Одетый с дешевым франтовством – желтые штиблеты, полосатые брюки режущей расцветки и широкополая соломенная шляпа с пестрой лентой, – он нелепой раскачивающейся походкой прогуливался по улицам с мучительно самоуверенной улыбкой на губах и заискивающе здоровался со всеми, кто его замечал. А если ему кланялся состоятельный человек, его израненное, раздутое тщеславие жадно хваталось за эту кроху, и дома он жалко хвастал:
– Малыша Стиви все знают! Его уважают все стоящие люди в городе, вот как! У всех найдется доброе слово для Малыша Стиви, кроме его родни. Знаете, что мне сегодня сказал Дж. Т. Коллинз?
– Что сказал? А кто это? Кто это? – смешно зачастила Элиза, отрываясь от чулка, который она штопала.
– Дж. Т. Коллинз – вот кто! Он стоит всего только двести тысяч долларов. «Стив, – сказал он вот прямо так. – Да будь у меня твоя голова…»
И он продолжал с угрюмым удовлетворением живописать картину своего будущего успеха, когда все те, кто пренебрегает им теперь, восторженно стекутся под его знамя.
– Д-а-да! – говорил он. – Они все тогда будут счастливы пожать руку Малыша Стиви.
Когда его исключили из школы, Гант в ярости жестоко избил его. Этого Стив не забыл. В конце концов ему было сказано, что он должен сам себя содержать, и он начал подрабатывать, то продавая содовую воду, то разнося утренние газеты. Как-то раз он отправился посмотреть свет с приятелем – Гусом Моди, сыном литейщика. Чумазые после путешествия в товарных вагонах, они слезли с поезда в Ноксвилле в Теннесси, истратили все свои небольшие деньги на еду и в публичном доме и вернулись домой через два дня, угольно-черные, но чрезвычайно гордые своими приключениями.
– Хоть присягнуть! – ворчала Элиза. – Просто не знаю, что выйдет из этого мальчишки.
Таков был трагический недостаток ее характера – всегда с опозданием осознавать самое существенное: она задумчиво поджимала губы, отвлекалась – а потом плакала, когда беда приходила. Она всегда выжидала. Кроме того, в глубине души она любила старшего сына не то чтобы больше остальных, но совсем по-другому. Его бойкая хвастливость и жалкая заносчивость нравились ей, она усматривала в них доказательство его «умения жить» и часто приводила в ярость своих прилежных дочерей, одобрительно отзываясь об этих качествах. Глядя, например, на исписанный им листок, она говорила:
– Ничего не скажешь, почерк у него куда лучше, чем у всех вас, сколько бы вы там ни учились!
Стив рано вкусил радостей бутылки – еще в те дни, когда ему приходилось быть свидетелем отцовских дебошей, он украдкой отхлебывал из полупустой фляжки глоток-другой крепкого скверного виски. Вкус виски вызывал у него тошноту, зато было чем похвастать перед приятелями.
Когда Стиву было пятнадцать, они с Гусом Моди, забравшись в соседский сарай покурить, обнаружили завернутую в мешок бутылку, которую почтенный обыватель укрыл тут от придирчивого взгляда жены. Хозяин, явившись для очередного тайного возлияния и заметив, что бутылка наполовину опустела, твердой рукой подлил туда кретонового масла – и несколько дней мальчиков непрерывно тошнило.
Однажды Стив подделал на чеке подпись отца. Гант обнаружил это только через несколько дней – чек был всего на три доллара, но гнев его не знал границ. Дома он разразился речью, настолько громовой, что поступок Стива стал известен всем соседям: он говорил, что отправит мерзавца в исправительное заведение, в тюрьму, что его опозорили на старости лет (этого периода своей жизни он еще не достиг, но в подобных случаях всегда на него ссылался).
Гант, конечно, оплатил чек, но теперь к его запасу бранных эпитетов прибавился еще и «фальшивомонетчик». Несколько дней Стив уходил из дома и возвращался домой крадучись и ел в одиночестве. Когда он встретился с отцом, сказано не было почти ничего: сквозь глазурь злобы оба заглядывали в самую сущность друг друга; они знали, что не могут скрыть друг от друга ничего – в обоих гноились одни и те же язвы, одни и те же потребности и желания, одни и те же низменные страсти оскверняли их кровь. И от этого сознания что-то и в том и в другом отворачивалось с мучительным стыдом.
Читать дальше
![Томас Вулф Взгляни на дом свой, ангел [litres] обложка книги](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-cover.webp)

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)

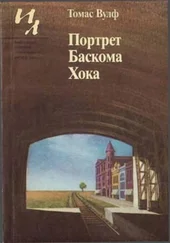
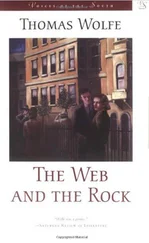

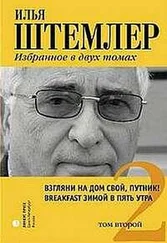
![Кит Томас - Далия Блэк. Хроника Вознесения [litres]](/books/388717/kit-tomas-daliya-blek-hronika-vozneseniya-litres-thumb.webp)
![Томас Гарди - Взор синих глаз [litres]](/books/397911/tomas-gardi-vzor-sinih-glaz-litres-thumb.webp)
![Томас Хэнши - Загадка ледяного пламени [litres]](/books/432347/tomas-henshi-zagadka-ledyanogo-plameni-litres-thumb.webp)