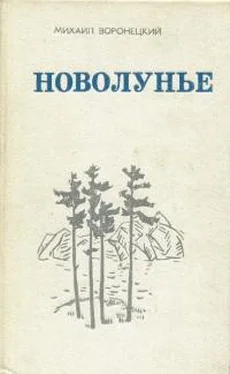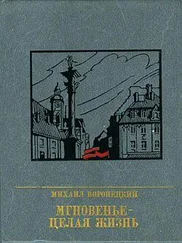Обогнули остров. Я увидел, как по берегу, за деревней, шла моя мать в обнимку с теткой Степанидой. Они пели незнакомую здесь песню:
Увлек, увлек ты для забавы,
а сам другую полюбил...
Когда пристали к яру, Колька слетал на берег и тут же вернулся. Рассказывал скороговоркой.
— Мать твоя, Мишип (когда ребятишки не считали нужным скрывать чувства дружбы за грубостью, они называчи друг друга со своеобразной нежностью — Мишип, Васип,Колип), у тетки Степаниды была, плакала.
Я молчал. А Колька сказал с завистью:
— Мишип, раз отца нет, значит, ты сам себе хозяин. Теперь тебя никто учиться не заставит. Можешь в конюхи подаваться. Дядя Лепехин заболел. Тебя в помощники возьмут.
Устроиться конюхом — заветная мечта каждого парнишки в деревне. Прежде и я мечтал об этом. Но теперь мне было не до того. Придя домой, я по привычке взял кринку и поплелся к дяде Павлу за молоком.
Его жена, тетя Физа, грузная, остроглазая, только что подоила корову и процеживала молоко у окна за печью. Стараясь не встречаться со мною глазами, говорила громко, со злостью:
— Теперь ты к нам за молоком не ходи. Я ведь ради деда давала. У меня и своих трое. А теперь еще, того гляди, и мать твоя придет. У меня такой родни много. Пускай к тетке Елене тебя шлет. Та ей ближе. Сестра.
Дядя Павел, старший брат матери, сорокапятилетний мужчина, из тех, о которых в деревне говорят «всегда с улыбочкой», сидел на лавке под божницей, играл на гармошке: «Вы не вейтеся, русые кудри, над моею больной головой»…
Он сжал гармошку на коленях и прикрикнул на жену.
Я хотел было уже идти к деду, но тетя Физа меня остановила. Поставила на лавку подойник (стульев в избе не было) и запричитала:
— Бедный мальчишечка! Кончилось твое детство. На мать тебе надежда как на вешний лед. Теперь тебе не учиться больше и приволья никакого не будет. Пойдешь помощником конюха, и убьет тебя лошадь, или покалечит навек.
Дядя Павел достал кисет.
— Зачем ему в конюхи идти? Можно и ко мне в подпаски. В люди выведу, чабаном настоящим сделаю.
Тетя Физа оттолкнула меня и бросилась к мужу:
— А ты, чертило двухметровый. Как для моего племянника, так места не было, а как сестрина сынка коснулось — так в люди выведу! Все вы одинаковые, вся ваша родова никудышная. Только песни петь да на гармошке играть, а крыша на стайке раскрыта — руки не доходят... И зачем я только за тебя выскочила, долю свою бабью сгубила? Какой человек сватал, Леха Бормотов! Сам бондарь и всю женину родню выучил. Улестил ты меня гармошкой! Улестил на погибель мою…
Тетя Физа залилась слезами. Я, позабыв на лавке кринку с молоком, убежал домой, пролез за стайку — плакать. Мне было жалко отца. Я думал о том, что никогда больше не увижу его.
Мать моя ревновала отца, и если случалось где-то им встретиться, то обязательно устраивала скандал. И хотя на их отношения никто из братьев отца никак не влиял, мать тем не менее ненавидела их всех. Кузькиных она считала своими врагами и везде, где только представлялась возможность, проявляла эту враждебность без малейшего послабления.
Особенно доставалось Митрию. В деревне был он на виду, работал бригадиром, дела вел умело. Беда, а может и счастье, его в том, что был он человек общительный, любил, как он говорил, выпить и потолковать с хорошим человеком. А хорошими у нас в деревне почему-то считались люди с правой стороны Енисея. Там было Заготзерно, там был шушенский совхоз... Как-то так случалось, что все появляющиеся с того берега мужики останавливались в нашем доме. Может быть, потому, что дед мой человек был очень гостеприимный и у него всегда имелась свежая рыба на закуску.
Как бы то ни было, но частые гулянки в нашем доме притягивали Митрия как магнит. На каком бы дальнем поле он ни был в это время, глядишь, уже скачет по улице на чубаром жеребце. Кинув на стояк калитки повод, Митрий не бежит в избу, а садится на бревно у забора и пытает меня:
— Мать-то дома?
— Не-е, — говорю я и тут же добавляю, так как знаю, что дяде Митрию ужасно хочется посидеть у нас: — Ее сегодня долго не будет, до самой ночи.
— Ну, ну, — веселеет дядя Митрий, — сходи деда позови, мне с ним надо насчет коробьев договориться. Коробья развалились, назем возить не в чем.
— Да ты заходи, — приглашаю я.
— Нет, у вас там, видать, народу полно, еще задержат, а у меня, Минька, дел — всю жизнь не переделать.
Но уже на крыльце сам дед появился, а за ним поспешают мужики с того берега, тормошат Митрия, чуть не под руки ведут в сени, где обычно налаживается застолье. Дядя Митрий отчаянно отнекивается, потому как знает, что его все равно уведут. Первое дело, он в компании человек приятный, ни к кому не придирается, когда пьянеет, любит запеснячивать, а второе — бригадир, как-никак хозяин деревни и Мерзлого хутора, составляющих его бригаду.
Читать дальше