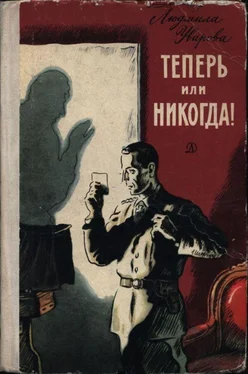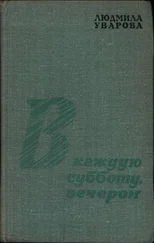Вечером он отправился на Угловую улицу, к Кате и ее сыну.
Катя лежала в постели в своей маленькой, окнами в палисадник, комнате. При виде Петра Петровича она от души обрадовалась.
— Как приятно чувствовать себя незабытой, — сказала она.
Петр Петрович сел возле ее кровати.
— Как же это вас угораздило поскользнуться?
Катя выразительно взглянула на Петра Петровича. Потом обратилась к сыну:
— Митя, сынок, пойди погуляй немного, я хочу поговорить с Петром Петровичем.
Оставшись вдвоем с Петром Петровичем, Катя тихо проговорила:
— Вам я скажу правду. Мне не хотелось бы, чтобы Митя знал, как это все случилось.
— Что случилось?
— Вчера я разносила немцам обед. Один какой-то пьяный лейтенант подставил мне ножку, и я растянулась на полу. Поднос — в одну сторону, тарелки — в другую… — Катя перевела дыхание. — Что тут было! Как они все смеялись!
Губы ее дрожали. Но она силой заставила себя продолжать.
— Когда я упала, то растянула ногу, наступить до сих пор не могу…
Петр Петрович осторожно провел рукой по Катиной голове. Катя закрыла лицо руками.
— Ненавижу! — прошептала она сквозь слезы. — О, как я ненавижу этих скотов, если бы вы только знали!..
— Знаю, — спокойно сказал Петр Петрович.
Он еще раз посмотрел на Катю и решился.
— Я — старый человек, Катюша, а вы еще молоды, в дочери мне годитесь, но есть у нас обоих одно общее, мы с вами не должны забывать того, что и вы и я — мы оба русские, советские люди…
Катя слушала его, широко раскрыв глаза. То, что он говорил, было неожиданным для нее, каждое его слово падало на ее душу долгожданной отрадой.
Она схватила его за руку.
— Что надо делать, скажите!
Он спросил ее:
— Вы не боитесь? Может быть, вам придется рисковать жизнью каждый день, каждый час, все время не забывать о том, что ходите по проволоке…
Она решительно сказала:
— Я ничего не боюсь!

— Помните: никому ни слова!
Катя кивнула.
Кто-то постучал в дверь. Вошла Соня.
— Познакомьтесь, — сказала Катя. — Это моя соседка и подруга Соня Арбатова.
Соня улыбнулась, протянула руку Петру Петровичу.
— Если бы вы знали, как я страдаю за Катю, я ведь все видела, — проговорила она. — Просто места себе не нахожу!
— Смотри не проговорись Мите, — сказала Катя.
— Что ты, дорогая моя, да никогда в жизни! — воскликнула Соня.
— Я не хочу, чтобы мой сын знал о том, как эти негодяи унижают его мать, — медленно произнесла Катя.
Соня молча гладила ее руку. Петр Петрович взглянул на Соню. Мягко очерченное лицо, спокойные, зеленоватого цвета глаза. Располагающая улыбка.
И все-таки что-то в ней не нравилось ему, что-то настораживало, он и сам не сумел бы объяснить, что именно. Может быть, беглый, ускользающий взгляд зеленоватых глаз? Или чересчур приторная, какая-то уж слишком дежурная улыбка?
Он постарался отогнать от себя мгновенно возникшую неприязнь. В самом деле, чего это он к ней придирается? В сущности, она вполне приятная, симпатичная и, по-видимому, дружески относится к Кате.
Много позднее, вспоминая о той своей первой встрече с Соней Арбатовой, Петр Петрович в который раз упрекнет себя за то, что не послушался голоса сердца, не поддался первому впечатлению, которое так часто бывает безошибочным…
Но это все случится потом, спустя какое-то время. А пока что он мирно вел беседу с молодыми женщинами и рассказывал им о том, как он фотографирует различных немецких господ и дам и как все они, независимо от возраста, требуют, чтобы они были на фотографии как можно более красивыми.
Так началась дружба Кати Воронцовой и старого фотографа.
Катя оказалась полезной для подпольщиков. Петр Петрович не ошибся в ней: она была исполнительной, сдержанной, изо всех сил старалась скрывать свои чувства, а сведения, которые она добывала, были ценными и нужными для партизан.
И никто, ни одна душа на всем свете не догадывалась о том, что приветливая, красивая официантка ресторана для немецких офицеров день ото дня ведет опасную, трудную работу, требующую выдержки, стойкости, уверенности в своих силах.

Никто не догадывался об этом, не исключая и Катиного сына Мити.
У Мити был, как считала Катя, странный характер. Он не умел равнодушно, безразлично относиться к кому-либо. Для него все люди делились или на совершенно плохих, или на совершенно хороших. Середины он не признавал.
Читать дальше