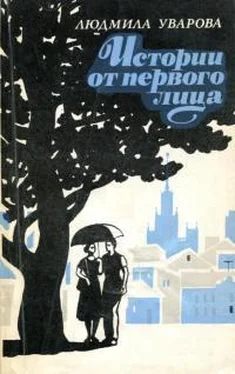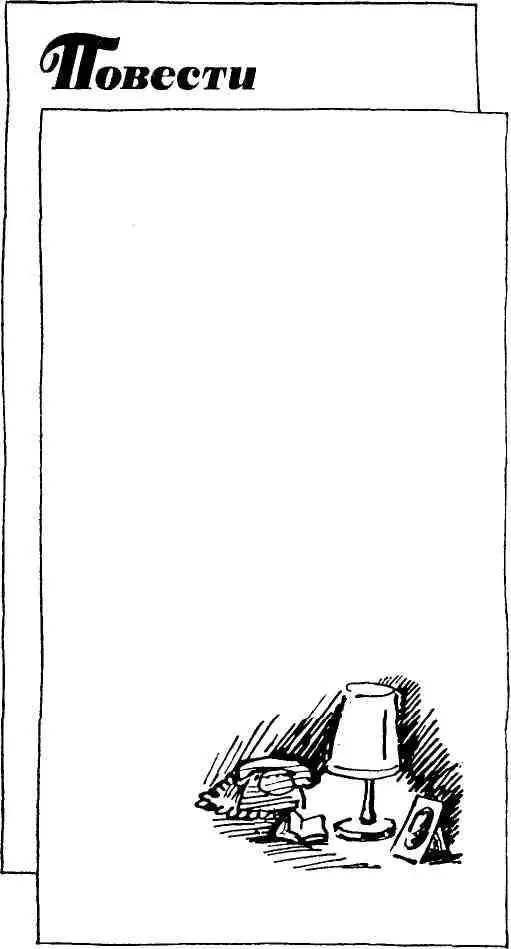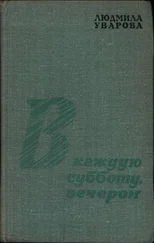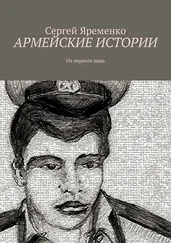Троллейбус остановился возле знакомого фонаря. Как и в прошлые годы, матовый плафон треснул, трещина походила на зигзаг молнии, казалось, стоит подуть ветру посильнее — тротуар покроется мелкими осколками и жемчужной стеклянной пылью.
Я сошла с троллейбуса, я кивнула фонарю, словно старому другу, и сказала тихо, так, чтобы только он один слышал:
— А ты все такой же, старик…
Потом завернула за угол и остановилась. Улица показалась мне вдруг чужой. Потому что моего дома не было. Совсем не было. Его снесли, и три соседних дома снесли тоже.
Легкий ветер нес над пустырем обманчивое тепло ранней осени.
Что будет потом на этом месте? — подумала я. Бульвар с аккуратными деревьями, рябыми от солнца дорожками? Или высотное здание, все в огнях хорошо промытых окон? Или школа, в которой будут учиться только в одну смену?
Не все ли равно? Дома нет и не будет. Моего дома.
Но он никогда не переставал жить в моем воображении, этот серый двухэтажный особняк с полукруглой аркой двора, в котором, в самом дальнем углу, росли мохнатые лопухи, а из дровяных сараев, стоявших в ряд, пахло одинаково — сдобным запахом березовой коры.
Я много ездила, видела новые города и страны, старела, совершала ошибки и старалась исправить их; я год от года менялась, а где-то далеко-далеко, на Мытной улице, в доме, который казался мне вечным, жила-была девочка, удивительно знакомая мне. Она не менялась, оставалась все такой же доверчивой, смешливой, нерасчетливой, обидно нехитрой.
Я часто думала о ней. Не только о ней, но и о тех друзьях, что вместе с нею жили в том самом доме в недосягаемой теперь стране — Детстве.
Я посмотрела на небо. Оно было чистым, нигде ни облачка, но уже готовым принять вечер. Скоро на нем появятся первые звезды…
— Нейтронные звезды остывают быстро, — сказал однажды Витька, — их свечение длится всего лишь тысячу лет.
— Всего-навсего? — удивился Ростик.
— Да, — сказал Витька, — всего-навсего, и ни одного дня больше.
Я спросила:
— А по виду они отличаются от обычных звезд?
— Да, говорят, что они много крупнее и ярче.
— А что такое нейтронные звезды?
Конечно, этот вопрос задала опять-таки я.
Ростик злорадно усмехнулся.
— Она не знает! А что она вообще знает?
— Не кипятись, — спокойно ответил Семен. — А ты сам знаешь?
— Я? Конечно, знаю. Это такие звезды, очень необыкновенные, в общем особенные, которые…
Он закашлялся…
— Ладно, — сказал Витька. — По совести говоря, я тоже не очень-то понимаю, что такое нейтронные звезды, но я постараюсь объяснить в следующий раз. Прочитаю и расскажу.
Он не боялся признаться, что не знает чего-либо. Поэтому мы ему всегда верили. Он читал много книг с такими подчас мудреными названиями, что их трудно было выговорить. А потом рассказывал нам, о чем написано в этих книгах.
— Ты все понимаешь? — спросил его как-то Семен.
— Само собой, — ответил Витька. Подумал и добавил: — Не всегда, но большей частью.
Такой он был, Витька. Не то что Ростик. Тот мог так вот, запросто, придумать все, что угодно, и потом глядеть очень искренними глазами и говорить проникновенно:
— Честное слово! Клянусь — это чистая правда!
И ему все равно никто не верил, даже Семен, который сам никогда не лгал.
А Витька умел сочинять. Не лгать, а сочинять что-нибудь такое, что никому, кроме него, не могло бы прийти в голову.
Он, например, на ходу придумывал продолжения книг и кинофильмов. Мы упивались игрой Нины Алисовой, прекрасной бесприданницы, ни за что ни про что отдавшей свою молодую жизнь, мы оплакивали ее горестную судьбу, а Витька утешал нас:
— Это же не конец. Там есть продолжение…
И рассказывал о том, как Ларису спасли, нашлись хорошие врачи, и они сделали ей операцию, и она потом вышла замуж за Васю Вожеватова и вместе с ним уехала в деревню и стала учить там крестьянских детей.
— И они жили долго и счастливо, — говорил Витька. — И умерли в один день.
Он часто повторял: «Они жили долго и умерли в один день».
А однажды признался: ему довелось прочитать эти слова у Александра Грина, и они пришлись ему по душе.
Читать дальше