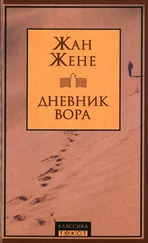– Я… нужно посмотреть.
Мне стало стыдно или я спешил? Мубарак исчез.
Похоже, любой знаменитый пейзаж хранит отпечатки восторженных взглядов, когда-либо направленных на него: Пирамиды, Альгамбра, Дельфы, пустыня. Привычки и манеры лейтенанта Мубарака казались словно помятыми оттого, что им столько любовались. Возможно, так казалось одному мне, но здесь, на этих целомудренных базах особенно чувствовалось его стремление нравиться, похоже, он мог очаровать кого угодно и что угодно. Если ему нужно было соблазнить молодого или старого араба, он испытывал на них свои возможности. Поскольку ни один фидаин не мог должным образом оценить то, как обдуманно и сознательно он привлекал внимание к своему телу и различным частям лица – глазам, губам, зубам, волосам – возможно, потому, что каждый обладал теми же сокровищами, но будучи целомудрен и стыдлив, не акцентировал на них внимание, он знал, что лишь я один взволнован – слегка – его присутствием, особенно, когда мы вдвоем шли по лесу. Он догадывался об этом с легко без труда и, садясь на траву, умело подчеркивал линию бедер или, шагая рядом со мной по тропинке, слегка отворачивался, продолжая разговор, расстегивал ширинку, мочился, а снова застегнувшись, протягивал мне сигарету. Палестинцы могли бы, как это звучало по-арабски, «пустить струю» в лесной поросли, но ни один из них не решился бы подать сигарету пальцами, которыми только что вынимал, поддерживал, засовывал обратно свой член.
В Мубараке было так выражено мужское начало – самца из казармы или неблагополучного района – и в то же время это была явная шлюха, я так и не понял, что он делал среди фидаинов, зачем приехал из Судана. Как и многие другие, он учился в Монпелье.
– Когда ты ругал правительство Помпиду, тебе же на все было плевать?
Он мягко улыбнулся.
– Если я вижу новое лицо, особенно лицо белого, не могу не обратить на себя внимание.
Шрамы племенных насечек всё равно не позволили бы ему остаться незаметным, а еще эта черное лицо, блестящее, как лакированных башмак.
Он исчез на два-три месяца.
Я надеялся, он вновь стал офицером при Нумейри, потому что его стремление очаровывать мешало ему быть бессмысленно беспощадным.
Вот как прошла моя первая встреча с Хамзой. Ирбид на сирийской границе сопротивлялся иорданской армии лучше, чем, к примеру, Амман, а палестинский лагерь на окраине города лучше и дольше, чем другие палестинские лагеря в Иордании. Возможно, здесь помогла география: в приграничный город войска, боеприпасы и продовольствие доставить было проще. Объяснение правдоподобное, но недостаточное. Опасности, которым подвергалось приграничное население после захвата Израилем Голанских высот, способствовали, скорее, эгоизму, а не солидарности. И чтобы сделать этот эгоизм терпимым, на помощь сирийцам с другой стороны весьма своевременно пришло понятие родины.
«В конечном счете, мы не иорданцы и не палестинцы, мы сирийцы. Ради интересов Родины, которой угрожают ЦАХАЛ и панарабизм [69]– последний явился не только из Дамаска, но из Каира и Багдада – мы должны быть настороже, то есть оставаться нейтральными». Это соображение, не лишенное здравого смысла, укрепляло, вероятно, выбор Хафеза аль-Асада:
– Возродить великую Серию, убавив, прежде всего, спеси у палестинцев.
Как же создается Родина, независимая единица? Жители Фландрии долгое время были независимы, как и бургундские, батавские, французские провинции, наконец, суверенное королевство породило новый тип людей: бельгийцы. Как нечто становится бельгийским? иорданским? палестинским? сирийским после двадцати пяти лет французского мандата и пяти веков османской оккупации?
Что касается жителей Ирбида, причиной их стойкости, помимо собственной храбрости, было расположение оборонительных сооружений, но прежде всего – проницательность палестинского руководства, которое знало, точнее и быстрее, чем руководство Аммана или Джераша, если и не час, то точный день наступления черкесов и бедуинов Хусейна. В Ирбиде и его палестинском лагере имелись такие запасы воды, муки и масла, что после вступления войск бедуинов все это еще оставалось. Английский перевод этого приказа: атаковать в четыре часа утра на площади Максим, в Аммане, показывали мне много раз. Как мне рассказывали, приказ пришел из Дворца. Нельзя отрицать храбрость мужчин, женщин, продуманность оборонительной стратегии руководства, но с тех пор, как эти слова стали употреблять в Ирбиде, они перестали иметь отношение к Амману, который сдался быстрее. Отсутствие воображения у командования, растерянность и недисциплинированность населения и всего сопротивления – лишь жалкие слова, впрочем, как и храбрость, и военный гений. Они несут всю эмоциональную нагрузку слов, с помощью которых мы пытаемся объяснить то, что нас трогает, и забываем, что прежние годы, вызывающее наше негодование, придали эти словам вес, ощущаемый нами и поныне. И где бы мы ни были, нам всегда нужны будут слова с неопределенным, переменчивым смыслом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)