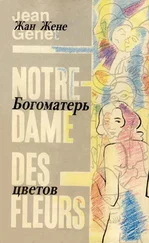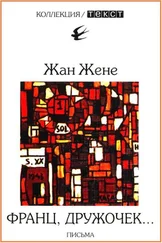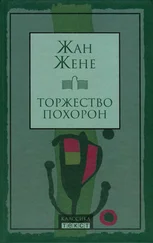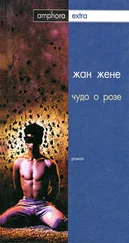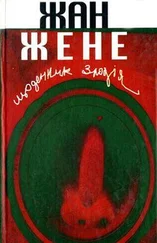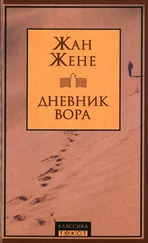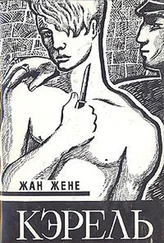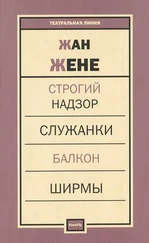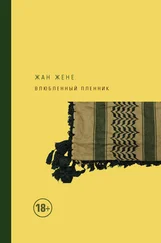Порой ближе к вечеру к лагерному расположению подходил какой-нибудь араб в галабее . Вместе с нами он пил чай или кофе, съедал немного риса, негромко прощался и уходил. «Знаешь, почему он остался стоять? – спросил меня как-то Феррадж. – Он не мог сесть. У него вдоль ноги, под галабеей, ружье. Он идет в Израиль. Если успеет, то расстреляет все свои патроны, может быть, этой ночью или под утро сдохнет какой-нибудь израильтянин».
В следующих строках я попробую объяснить разницу между базами и лагерями. Очевидно, что эти записки адресованы европейцам, арабы и так знают, в чем дело. В самом деле, на базах и в лагерях менталитет был совершенно разный.
Вплоть до 1971 года базы вдоль Иордана наблюдали за оккупированными территориями и той частью Палестины, которую ООН назвал Израилем.
Эти базы являлись подвижными военными подразделениями, состоявшими из двух-трех десятков палестинских солдат, которые спали в палатках, из вооружения имелись простые ружья, впоследствии один или два автомата.
Базы были разными. Например, развернутые прямо на краю скалы, под которой течет Иордан. Другие базы, в нескольких сотнях метров от этих, служили опорой первым, и тоже выставляли сторожевые дозоры. Вокруг этого второго полукруга имелся третий, а за ним и четвертый. У меня сложилось впечатление, что эти четыре полукружья образовывали своеобразный лабиринт-препятствие. Та, что находилась прямо на берегу, казалась довольно открытой, потому что береговая линия не была слишком изломана, а самой запутанной казалась та, что вела к дороге из Джераша в Амман, причем, говорили не «дорога», а «асфальт».
За всеми этими сооружениями следила иорданская армия, Она, в свою очередь, получала донесения от населения иорданских деревень, которые находились ближе всего к базам. Следует сразу же сказать, что на всем этом пространстве от «асфальта» до Иордана перемещение было довольно свободным. Женщины туда не допускались: разве что принести-унести письма, и никогда там не прогуливались, оставались сидеть на лужайке напротив караульного помещения.
Представьте себе состояние фидаинов, наблюдающих за этой территорией, их собственной территорией, по которой сновали туда-сюда враги, полагая, что они свободны или усиленно делая вид, что свободны, хотя за каждым поворотом дороги их подстерегали пули. От моста Алленби до моста Дамия – это название мне напоминает певицу шансона Маризу Дамия и ее песню «Злая молитва», в которой жена ушедшего в плаванье моряка просит Деву Марию, чтобы муж лучше утонул, чем был пленен сиренами – напротив иорданских фидаинов стояли израильские солдаты вперемежку с палестинским населением, это были пленники гарнизонов или израильской администрации, так что из-за Иордана нельзя было выпускать пули наугад, и только лучшие снайперы держали на прицеле оккупированные территории, нет, даже не так: оккупированные-территории.
В наши дни, когда прошло столько времени, выражение утратило свою первоначальную, почти священную, силу, то же самое, что во Франции стало с «Эльзасом-Лотарингией». Дефис подчеркивал сходство, но сейчас, как и тогда, я зачарован этой комедией дружбы-ненависти, и то, и другое зачастую было притворным, зато более или менее широкие пограничные зоны – реальными. Ведь граница есть идеальная линия, которая не является предметом торговли, за исключением случаев взаимной договоренности между двумя народами, а эта граница и проход через нее контролируются одновременно обеими сторонами, отсюда и эти соглашения, которые как раз и являются фарсами, где лица – одно напротив другого – либо грозные, либо очень добрые, почти пленительные. И наконец, пограничная межа – или пограничная маржа – это то место, где любой человек в согласии или противоречии с самим собой выражает себя во всей полноте. Если бы передо мной встал очень трудный выбор: стать кем-то другим, а не собой, я бы сделался альзасцем-лотарингцем. Где немец и француз не тождественны ни тому, ни другому. Переставая быть якобинцем, что бы он сам об этом ни говорил, любой человек, приближаясь к границе, становится Макьявели, не осмеливаясь утверждать, что это место и есть та межа-маржа, где можно быть целым и неразделимым, и, возможно, гуманнее было бы растянуть территориально эту приграничную территорию, разумеется, не уничтожив при этом узловые точки, потому что именно благодаря им возможны края, грани, границы, и я уже вижу здесь эту картину идеального предательства: одна нога сюда, другая туда, третья на север, четвертая на юг и так до бесконечности, этот архитектурный орнамент из ног, делающий любое передвижение, любой переход невозможными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)