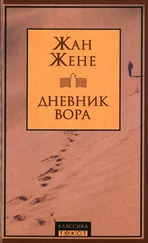Идея произвести выстрел пришла в голову офицера не просто так. Это было обдуманное безрассудство: на своих спинах мулы привезли ящик со снарядами.
Одно это слово: снаряд – могло привести нас в растерянность. Ничего себе! Здесь, рядом с нами? Значит, война так близко, а слава буквально под рукой?
– Артиллеристы, один выстрел.
Тут мы слегка протрезвели, потому что он добавил обычным, будничным тоном, хотя нет, все-таки немного торжественно:
– Холостым, конечно.
Впрочем, торжественность оказалась несколько смазана, потому что слово «конечно» потонуло в радостном хохоте. Эти мореплаватели такие мальчишки.
– Холостым.
Что и было исполнено; звук оказался глухим, зато нас окутал запах пороха. Я вновь открыл глаза. Очень медленно, осторожно, чтобы не вспугнуть меня, поберечь, чтобы я не поверил собственным глазам, передо мной возникла паутина. Орудийная башня медленно пошла трещинами, мне кажется, даже задрожала, и рассыпалась, вот это совершенно точно, превратилась в кучу строительного мусора, может, последние мгновения жизни напомнили благородной пушке морскую качку, как на ее родном миноносце в бушующем море; а еще это немного было похоже на качающийся вагон, когда тирольские контролеры при повороте поезда пытаются устоять на ногах, и только качка напоминает о том, что в Австрии имелся порт, Триест, и еще моря, все Моря.
Пушка погрузилась в армированный бетон. Военный госпиталь, который сирийцы немного переделали, недавно мне опять довелось его увидеть, был местом довольно спокойным. Врачи вылечили меня от желтухи, которая приключилась из-за стыда. Меня отправили обратно во Францию, оплатив месяц больничного, но с военной карьерой было покончено. Никогда после смерти мне не суждено будет превратиться в статую на бронзовом коне, моя бронзовая фигура не будет вырисовываться в лунном свете. Однако благодаря этому гротескному, но монументальному кораблекрушению я стал другом палестинцев. Позже я объясню, почему.
Палестинская революция – единственная причина, побудившая меня писать эту книгу, но объяснить, отчего я оказался так вовлечен в логику этой очевидно безумной войны, я могу, лишь вспоминая о том, что мне дорого: какую-нибудь из моих тюрем, островок мха, несколько стеблей травы, может быть, полевые цветы, пробивающиеся сквозь бетонное покрытие дороги или гранитную плиту или – но это будет единственной роскошью, на которую я согласен – пара цветков шиповника на колючем сухом кусте.
Пусть тюрьма была прочной, гранитные блоки скреплены самым твердым цементом, а еще железными штырями, но неожиданные трещины, образовавшиеся из-за дождевой воды, какого-нибудь семечка, единственного солнечного луча – и вот уже стебелек травы раздробил гранитные блоки, добро свершилось, я хочу сказать, тюрьма разрушена.
ПАЛЕСТИНА ПОБЕДИТ далеко от Израиль будет жить, так же далеко, как нож для подрезания зеленой изгороди далек от зеленой почки, и неожиданное везение меня пугает так же, как и военное поражение.
Франция, где в возрасте шести-восьми лет я чувствовал себя чужаком, хотя Дирекция государственных больничных учреждений делала все, что положено делать для раковых больных в больницах всего мира, Франция жила вокруг меня. И даже когда я находился далеко, ей все равно казалось, что она удерживает меня в себе. Она вращалась вокруг меня, как ее империя, окрашенная розовым на плоскости планисферы, вращалась вокруг земного шара, и звалась она заморской империей, а я мог бы совершить кругосветное путешествие без паспорта и в деревянных сабо. Горделивая и надменная империя, изо всех прочих империй интересующаяся разве что Индией, Франция почти беспрепятственно, без кровопролития – здесь просится это последнее выражение, оставшееся со времен феодальных войн – захвачена несколькими батальонами красивых белокурых воинов. Возможно, всего этого было чересчур: красоты, «белокурости», юности, и Франция просто легла. Ничком. Я был там. И она, охваченная ужасом, стала спасаться бегством прямо на моих глазах, они видели это: множество спин, бегущих спин, и сразу несколько солнц – июньское солнце, южное солнце, немецкая звезда. И все это воинство спин и солнц бежало как вы думаете, куда? В сторону солнца. В этом разоренном храме поселились мхи и лишайники, иногда доброта, иногда еще более странные вещи, эдакая счастливая мешанина всего со всем, без социальных различий. Я был от всего этого далеко. Охваченный гордыней, унаследованной от бывших властелинов мира, я смотрел на эти метаморфозы с ликованием и в то же время с затаенной грустью: ведь сам был далеко. Подобные сцены уже случались: дама с украшениями на пальцах, запястьях, шее, в ушах заботилась о своих несчастных непослушных детях; в том же вагоне второго класса некий господин с несколькими орденами на груди, в широкополой шляпе почтительно ухаживал за бедным, изможденным, раненым и грязным стариком; молодая женщина с ногтями, выкрашенными зеленым лаком, помогала нищенке тащить четыре картонных чемодана, и надо был видеть, как аккуратно и неумело она, узелок за узелком распутывала тесемки, чтобы вынуть из чемодана заштопанные серые носки. Но как этот слабый народ заботится о своем языке, где: бербер равно варвар, курильщик гашиша убийца, андалузец вандал, апач бандит-апаш, англичанин, марокканец, негодяй, лягушатник, макаронник, бош, фриц, брат, черномазый, бико. Потому что гордые своими колониями гордые французы сделались своими собственными рабочими-иммигрантами. Отсюда и эта монотонная серость, и лишь изредка – грация. Мох, лишайник, трава, какие-то кусты шиповника, способные приподнять красные гранитные плиты – таким был образ палестинского народа, прорастающего изо всех щелей и расселин… Если мне придется объяснять, почему я ушел к фидаинам, у меня останется этот последний довод: в шутку. Мне во многом помог случай. Думаю, для всех я уже умер. И медленно, словно постепенно теряя силы, я окончательно умер, чтобы это выглядело красиво.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)