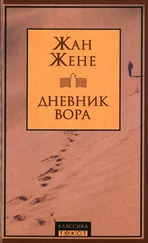Настоящее всегда сурово. Предполагается, что будущее еще суровей. Прошлое или, вернее, то, чего уже нет, восхитительно, но мы живем в настоящем. Этому миру, живущему в настоящем, палестинская революция дарила нежность, какая обычно присуща прошлому, отдаленности, отсутствию, потому что описать ее можно такими вот эпитетами: благородная, хрупкая, мужественная, героическая, романтическая, торжественная, коварная, лукавая. В Европе привыкли оперировать лишь цифрами. В номере от 31 октября 1985 газеты «Монд» три страницы посвящены финансам. А фидаины даже не подсчитывали своих погибших.
Продолжительность революции имеет важное значение. К главному несчастью: изгнанию из Палестины палестинцев – багажа мало, детей много – добавились и другие: довольно холодный прием ливанцев, сирийцев, иорданцев, нерешительность арабских стран, медливших с военной помощью, которая если и не вынудила бы Израиль отступить, то хотя бы убедила ООН совершить более справедливый раздел в 1947. Нерешительность арабов имела много причин: мятежники представляли собой угрозу богатым состояниям, кроме того, такие страны как Саудовская Аравия, Эмираты, Ливан, Сирия являлись союзниками Америки и Европы. А Израиль продемонстрировал такую военную и политическую мощь, что к нему необходимо было относиться, как к равному, хотя бы и не признавая это в открытую; ну и, наконец, зачем поддерживать население, которое не являлось государством, а было только провинцией: римской, сирийской, османской, в подчинении у Великобритании.
Между тем, только палестинскому населению оказывали хоть какую-то помощь в лагерях, которые поначалу называли «транзитными лагерями», «лагерями беженцев», за ними надзирала арабская полиция трех стран, которые этих беженцев приняли.
Я не могу объяснить, из чего именно выросло сопротивление, необходимо учитывать, что и сотен лет недостаточно для окончательного уничтожения народа: исток мятежа может быть скрытым и тайным, как исток Амазонки, который находится под землей. Где истоки Палестинской Революции? Какой географ способен их отыскать? но воды, что льются из этого истока, – новые воды и, возможно, живительные воды?
Некоторые читательницы-англичанки по-прежнему любят всё романтическое. Они много читают. Палестинское Сопротивление, похоже, имело и такую дополнительную функцию: дать целой планете живой пример рыцарского благородства. В Иорданию приезжают еще и с надеждой встретить Пардайяна [80].
Различные случайности, из которых будет состоять моя жизнь, оставив меня в этот мире, не позволяют мне изменить его, я стану лишь наблюдать, его, описывать, если смогу разгадать, и каждый фрагмент моей жизни окажется всего лишь работой по написанию – выбором слов, зачеркиванием, возможно, чтением задом наперед – каждого из эпизодов, не обязательно достоверных, если судить по фактам, которые зафиксирует мой взгляд, но таких, какие я отбираю сам, интерпретирую и классифицирую. Не будучи ни архивариусом, ни историком, я рассказываю свою жизнь лишь для того, чтобы поведать историю палестинцев.
Необычность моей ситуации видится мне теперь в три четверти, в профиль или со спины, потому что я в моем возрасте и с моим ростом никогда не вижу себя анфас, только со спины или в профиль, а собственные размеры определяю по направлению своих жестов или жестов фидаинов, сигарета перемещалась сверху вниз, зажигалка снизу вверх, и по траектории этих жестов я воссоздаю свой рост и местоположение в группе.
Как наступает африканская пустыня, отвоевывая все больше пространства, так и на весь мир тоже надвигалась своего рода пустыня: «братство ножей», чтобы отвести, изменить траекторию снаряда, несущего смерть, но оставалась эта вспышка, треугольник света на режущей пластинке, на лезвии, и его путь в желобке гильотины, утренние церемониалы, после которых вас уже никогда не отпустит непреодолимое влечение к деревянной вдове. Мне доводилось читать в романах, что некоторые мужчины (готовые принять смерть) могут погибнуть, ослепленные женским взглядом. В Шательро до сих пор есть витрина, где я увидел нож, довольно маленький, перочинный, который раскрывался, медленно, один за другим, показывая свои лезвия, угрожая поочередно всем сторонам света, всем сегментам города, ведь этот предмет поворачивался вокруг себя, бросая вызов северу, западу, югу, востоку, он угрожал улице, на которой я стоял, прилавку пекаря и – несколько мгновений спустя – самому магазину ножей. Каждое лезвие (или то, что его заменяло) имело определенную функцию, от смертоносного ножа – он мог пронзить грудь или спину и поразить сердце взрослого человека – до штопора, открыть бутылку красного вина в честь победы. Этот предмет с рукояткой из отполированного рога в закрытом виде казался безобидным, открытый, он разбухал так, что ему мог бы позавидовать дикобраз, этот ножик для изготовления поделок, миниатюрный и какой-то провинциальный, этот перочинный нож с сорока семью грозными лезвиями чем-то походил на палестинскую революцию: нечто маленькое, угрожающее всем направлениям – ваши журналисты написали бы «азимутам» —: Израилю, Америке, арабским монархиям; как ножик на витрине, она поворачивалась вокруг себя; её, как и его, никто не собирался покупать; но похоже, сегодня, все лезвия, кроме, пожалуй, зубочистки, заржавели. Зато другое оружие в полном порядке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)