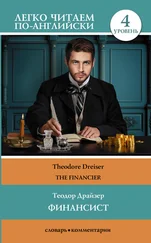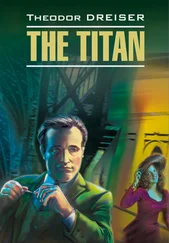Итак, на следующий день, в двенадцать часов, погребальная процессия начала выстраиваться перед дворцом Каупервуда. Кучки зевак собирались на ближних улицах, чтобы посмотреть на это зрелище. Сразу за катафалком ехала карета, в которой сидели Эйлин, Фрэнк Каупервуд-младший и дочь Каупервуда Лилиан Темплтон. А дальше, одна за другой, цепочкой потянулись остальные кареты и, медленно проследовав по мостовой, под нависшим свинцовым небом, въехали в ворота Гринвудского кладбища. Широкая аллея, усыпанная гравием, подымалась по отлогому холму; ее окаймляли старые ветвистые деревья, за которыми виднелись ряды надгробных плит и памятников. Подъем все продолжался; примерно через четверть мили процессия свернула вправо, а через несколько сотен шагов меж высоких деревьев показался склеп – суровый и величественный.
Он стоял в полном уединении – вокруг ближе чем на тридцать футов не было ни единого памятника, – серое, строгое сооружение, северное подобие древнегреческого храма. Четыре изящных колонны, по стилю близкие к ионическим, образовали портик; они поддерживали фронтон – правильный треугольник, совершенно гладкий: ни креста, ни каких-либо украшений. Над дверьми, ведущими в склеп, – имя, выведенное крупными, четкими прямоугольными буквами: Фрэнк Алджернон Каупервуд. На трех широких гранитных ступенях лежали горы цветов, а массивные двойные бронзовые двери были раскрыты настежь в ожидании именитого покойника. Каждый, кто видел этот мавзолей впервые, невольно чувствовал, что перед ним подлинное произведение искусства – строгое и внушительное, оно своей величественной простотой подавляло все вокруг.
Когда из окна кареты Эйлин неожиданно увидела перед собою склеп, она в последний раз оценила умение мужа должным образом подать себя. И тотчас она закрыла глаза, чтобы не видеть этой гробницы, и попыталась представить себе Каупервуда таким, каким видела его в последний раз, когда он стоял перед ней, полный жизни, уверенный в себе. Ее карета остановилась, ожидая, чтобы катафалк поравнялся с дверью склепа; затем тяжелый бронзовый гроб внесли по ступеням и поставили среди цветов, перед кафедрой священника. Провожающие вышли из карет и проследовали на площадку перед склепом – там был натянут широкий полотняный тент и приготовлены скамьи и стулья.
В одной из карет, рядом с доктором Джеймсом, молча сидела Беренис, устремив неподвижный взгляд на склеп, который должен был навсегда сокрыть от нее любимого. Слез не было: она не плачет и не будет плакать. Да и что толку протестовать, спорить с лавиной, которая унесла из ее жизни все самое дорогое? Во всяком случае, так думала Беренис. Она опять и опять повторяла про себя одно-единственное слово: «Терпи! Терпи! Терпи!»
Когда все друзья и родственники уселись, священник епископальной церкви преподобный Хейворд Креншоу занял свое место на кафедре; выждав несколько минут, пока не стало совсем тихо, он торжественным голосом произнес надгробное слово.
Носильщики подняли гроб, внесли его в склеп и опустили в саркофаг; священник преклонил колени и начал молиться. Эйлин отказалась войти в склеп, а потому и все остались снаружи. Вскоре священник вышел, и бронзовые двери затворились: церемония похорон Фрэнка Алджернона Каупервуда была окончена.
Священник подошел к Эйлин, чтобы сказать несколько слов утешения: друзья и родственники начали разъезжаться, и вскоре все вокруг опустело. Только доктор Джеймс и Беренис задержались в тени развесистой березы – Беренис не хотелось уходить вместе со всеми; постояв еще немного, они медленно стали спускаться по извилистой дорожке. Пройдя около сотни шагов, Беренис оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на место последнего упокоения своего возлюбленного: склеп стоял высокий, надменный в своей безвестности, выгравированное на нем имя отсюда уже не было видно. Он был высокий и надменный – и все же такой незначительный по сравнению с огромными вязами, простершими над ним свои ветви.
После болезни и смерти Каупервуда на душе у Беренис было так смутно и тяжело, что она решила перебраться в свой особняк на Парк-авеню, который стоял под замком все время, пока она жила в Англии. Теперь, когда ей самой неясно, что ждет ее впереди, она хотя бы на время укроется в своем доме – по крайней мере, чтобы спастись от докучливых репортеров. Доктор Джеймс одобрил ее решение: ему будет легче отвечать, что она уехала куда-то, а куда – он в точности не знает. И хитрость эта отлично удалась: он несколько раз заявил, что знает не больше, чем сообщалось в газетах, и к нему перестали приставать с расспросами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Теодор Драйзер Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе [сборник litres] обложка книги](/books/431071/teodor-drajzer-finansist-titan-stoik-trilogiya-cover.webp)


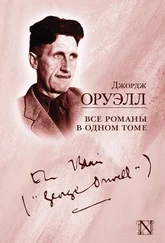



![Анджей Сапковский - Ведьмак [«Сага о Геральте» – в одном томе, 2020 год] [сборник litres]](/books/400490/andzhej-sapkovskij-vedmak-saga-o-geralte-v-o-thumb.webp)
![Александр Богданов - Русская фантастика – 2019. Том 1 [сборник litres]](/books/416857/aleksandr-bogdanov-russkaya-fantastika-2019-tom-thumb.webp)