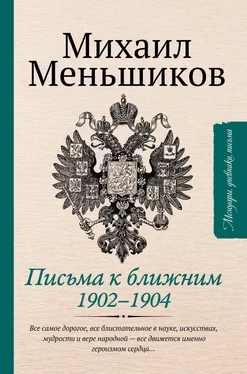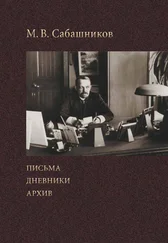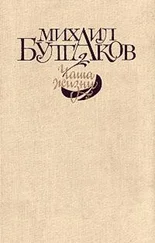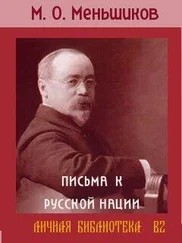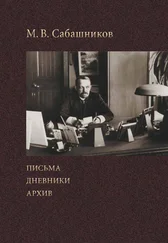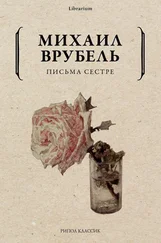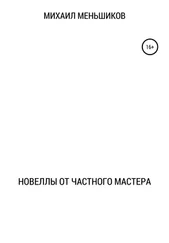У нас в России одно крестьянское зерно дает от трех до пяти зерен, и мужики снимают шапки, говоря: слава Богу. Но что сказал бы мужик, если бы ему заявить, что возможны не четыре зерна, а, например, сорок, снятых с той же земли? Он посмеялся бы этому, как болтовне. А если бы ему сказать серьезно, что сорок зерен – пустяки, что можно снять даже сотню зерен, и две сотни, и три, – он подумал бы, что вы бредите. Однако вы могли бы доказывать, что даже и три сотни – вздор, что зерно способно приносить пятьсот зерен, а при старании даже восемьсот. Как нужно думать, мужик плюнул бы в сторону и отошел бы от вас, но вы могли бы, ни на секунду не впадая в шутовство, догнать его и побожиться, что зерно в состоянии давать гораздо больше, чем восемьсот; оно может давать сам – три тысячи! Вы могли бы долго продолжать разговор в этом духе. Наконец, чтобы окончательно ввести нашего тысячелетнего землероба в область чудес, вы могли бы неопровержимо доказать, что вот это самое зерно пшеницы, которое он держит в руках, или какой-нибудь правнук этого зерна, при хорошем уходе может дать даже не три тысячи, а 6 855 зерен. Урожай сам – шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять! Вместо «сам-пят» теперешних!
Выше мечтать о пределе урожайности пока мы не имеем права: искусство земледелия не дало более совершенного образца. Но об этой цифре – 6 855 – говорить можно, потому что она доказана с точностью любого явления природы. Спешу оговориться, что ни в одной стране пока еще не снимают подобных урожаев. Это ученый опыт и имеет пока лишь научное значение. Французский хозяин Грандо из одного зерна пшеницы получил куст высотою до двух аршин с 82-мя колосьями, причем всех зерен было собрано 3 280, весом более трети фунта. У другого наблюдателя, Габерланда, из одного зерна получился куст с 130-ю стеблями, давшими 6 855 зерен. Вот откуда явилась наша цифра. При таком урожае одна десятина могла бы дать девятьсот пудов зерна, то есть прокормить в крайнем случае до ста человек. Названные ученые делали свой опыт над одним зерном, обставляя последнее всею роскошью удобрения, влаги, света, тепла и ухода. Практика больших хозяйств почти вдвое ниже этого идеала, но он имеет огромное значение, как идеал достигнутый. Как Америку было трудно открыть лишь в первый раз, так и здесь: отдаленность нового мира не мешает верить, что он есть, что он, хоть и с большими усилиями, достижим.
Мне очень хочется рекомендовать вниманию читателей интересную книжку, из которой я беру здесь сельскохозяйственные данные. Эта книжка называется «Хлебный огород» и написана Е.И. Поповым, В ней даются результаты действительно культурного земледелия, не жалкой нашей деревенской стряпни, а высокого искусства, где есть свои великие школы и мастера, художники вечного «возрождения» природы. Автор названной книжки знакомит нас с основами японского и близкого к нему китайского земледелия, а также с опытами французской огородной культуры. Чтобы понять, почему японцы считаются лучшими хозяевами в свете, достаточно вспомнить, что острова их, площадью не более нашего Кавказа, прокармливают 45 000 000 душ. Ни в чем ином разгадка колоссальной населенности Китая. Очень любопытны в книжке г. Попова десять китайских жанровых картин, изображающих китайцев на их полевых работах. Это какая-то идиллия, где в круг жизни вовлечена вся природа, женщины, дети, старики, утки, куры, собаки, деревья, солнце, вода. Поразительно, до какой аптекарской точности все у китайцев использовано и решительно ничто, как в обмене сил природы, не пропадает даром. Бродя по щиколку в благодатной грязи своих огородов, эти язычники строго осуществляют библейский завет Создателя – «возделывать и хранить землю».
Всего замечательнее основной принцип художественного хозяйства – иметь немного земли. У нас в некоторых других странах стоит стон от безземелья. 21/4-десятинные наделы на душу считаются уже почти нищенскими; на севере самый низкий надел – 4 десятины, и мужики местами буквально мрут с голоду. Поглядите, какая нищета под Любанью! Только отхожие промыслы спасают край этот – коренную новгородскую Русь – от полного запустения. Четыре десятины – мало. Земля тощая, без навозу ничего не родит. Чтобы иметь навоз, надо иметь скот, надо иметь выгоны для скота, сенокосы. И так как урожаи плохие, то единственное спасенье – увеличить запашку. Но для этого нужно иметь еще больше навоза, т. е. еще больше скота, больше выгонов и сенокосов и т. д. Растет запашка, семье не управиться с ней. Лето короткое, приходится или нанимать работников, кормить их с той же земли и платить за работу, или надрывать последние силы. Образуется какой-то ложный круг, из которого нет выхода. Не умея объяснить своего положения, крестьяне все валят на то, что земли мало. Старики припоминают времена, когда населения было вдвое меньше, когда были доступны леса и сенокосы, когда держалось еще подсечное, переложное хозяйство, когда для одного-двух хороших урожаев рубились и сжигались целые леса. Тысячелетиями народ привык к хищническому земледелию – и теперь ему кажется, что земли мало. Действительно, ее мало, – если держаться старого варварства. Но для земледелия как искусства ее не только мало – ее слишком много, и в том, что ее много, – коренная причина самой отсталости нашего земледелия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу