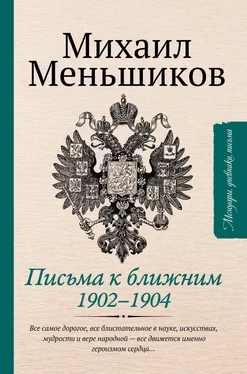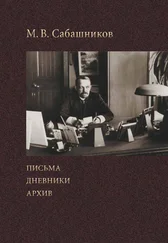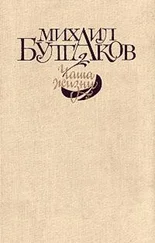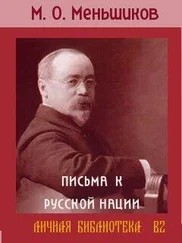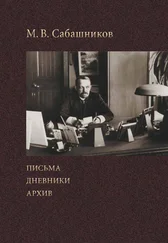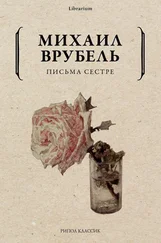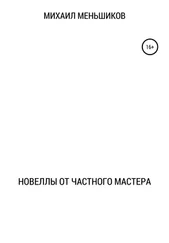От Римини мы поворачиваем на Болонью. Чтобы добраться до Флоренции, нужно еще много часов утомительного бега среди сплошных плантаций, пока поезд не поднимается в Апеннины. Туч нас снова охватывают со всех сторон гигантские кручи, ущелья, пропасти и обвалы. Флоренция – родина Возрождения – покоится по ту сторону гор. Прежде чем добраться до Флоренции, столицы искусств, нужно…
Но я вспоминаю, что отнюдь не собирался делиться с читателями моими дорожными впечатлениями. Они интересны для одного меня. Мне хочется сказать, что прежде, чем добраться до какого-нибудь великого города в Европе, с мраморными дворцами, башнями, музеями, монументами, с огромными залежами произведений искусства, необходимо проехать целые сотни верст превосходно возделанной земли, земли – как здесь в Италии, – похожей на Ханаан, обильный «млеком и медом». Ничуть не менее, чем великолепие здешних городов, – поражает великолепие полей, лесов, огородов, садов, грандиозные формы сбереженной и художественно возделанной природы. Я помню, как больше двадцати лет назад, когда я был впервые за границей, меня удивила роскошь французского хозяйства по дороге от Бретани до Парижа. Ту же благодатную картину впоследствии я видел в Ломбардии, в Германии от Кельна до Берлина и на этих днях – в долине Дуная. Невольно напрашивается мысль: нет ли известного соответствия между цветущим городом и цветущей деревней? Не в смысле богатства только, а в более тонком отношении – духовного творчества, приложенного там и здесь.
Тут, во Флоренции, откуда я пишу эти строки, просто прохода нет от произведений искусства. В исполинских дворцах уже вымершей аристократии, в старинных храмах, на площадях – на вас смотрят бесчисленные статуи, картины, колонны, капители, арки, барельефы, фрески, предметы художественной утвари – всего, что гений человеческий мог представить лучшего в своей мечте. Но возможен ли был бы, например, этот грандиозный раlazzo Рitti, если бы он не был поддержан еще более грандиозным и художественно обработанным полем? Вход в знаменитую галерею высокого благородства, ничего изящнее я не видал. Но не должны ли быть поддержаны все эти вестибюли и залы не менее утонченным скотным двором, виноградником, лесом, которых отсюда не видно? Их не видно, но они где-то есть и в своем роде должны стоять на культурной высоте этих знаменитых полотен и резного мрамора. Сюда вложен гений и туда вложен. Здесь преображен камень, дерево, краски – и там они преображены. И там в сырую природу вложено столько же нежной любви, столько же художественного восторга, сколько в кирпич и бронзу этих дворцов. Среди первобытных полей могут стоять только первобытные города – наши, например, губернские «центры», Псков, Владимир, Рязань, Тула, Чернигов, Калуга… Эти милые нашему сердцу старые серые тысячелетние деревни…
Что такое земледелие как изящное искусство, об этом не только мы, – заурядная публика, – но и огромное большинство народное не имеет даже слабого понятия. Из культурных хозяев – и из них лишь немногие знают, на что способна земля, оплодотворенная не бездарностью, а гением, воспитанным в хорошей культуре. Русская деревня, хотя она без земли бессмыслица, хотя она тысячи лет сидит в навозе, не дает и тени представления о том благообразии, силе, изобилии, в которые распускается, как махровый цвет, обыкновенный крестьянский труд, если он поставлен, как труд артиста. То, что мы обыкновенно видим на своих полях и гумнах, есть просто первобытное варварство и так же относится к настоящему земледелию, как «скифские бабы» наших степей к богиням и грациям работы Клеомена. Это не только не искусство, а даже не ремесло, потому что и к ремеслу предъявляются требования высокие. Шалаш в лесу – что он такое? Как бы хорошо он ни был построен, это не жилище, как лапоть – не обувь в смысле самого простого ремесла. Наше народное земледелие находится на степени еще зачаточного труда, где требования ничтожны, где замыслы ограниченны, где самый маленький успех покупается затратой огромных сил. Отчего у нас не расцвела в свое время языческая мифология, народная поэзия, гончарное и ювелирное дело, скульптура, живопись? Может быть, оттого, что целые тысячи лет искусство обращения с землей стояло в зародыше. Земля не давала избытка хлеба, то есть избытка досуга, той необходимой праздности, при которой – как в долине Евфрата, Нила и Ганга – слагалась утонченная жизнь, при которой начинало работать воображение, создавая как бы новую человеческую душу – художественное сознание. У нас земля всегда давала сам-четверт, т. е. всегда держала человека на границе бедности и подневольного труда. Но виновата, конечно, не земля, а человек. С землей необходима та же энергия и нежность обращения, с какою Микеланджело обходился с глыбой мрамора. Вспомните его «Моисея». Не кому иному, а только Моисею под силу было ударить жезлом по скале, чтобы из нее брызнул живой источник. Нужно было знание, где ударить, и самый удар был богатырский, заставивший скалу рассесться. Слабое царапанье скалы, кое-какое ковырянье почвы сохой да деревянной бороной, пачкотня каким-то мусором вместо навоза, неуменье ни выполоть своего поля, ни оросить его, ни спасти от вымочки, ни обеспечить от зверей и насекомых – все это не агрикультура вовсе, не искусство и не ремесло, а так… Аллах ведает, что это такое. Это – приложение к земле не радостного гения, а холодного, очень жалкого невежества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу